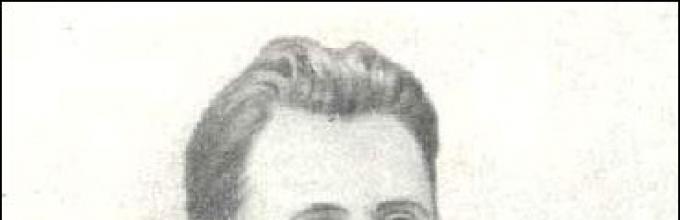Но дело не только в круглой дате. Блестящий представитель Серебряного века, "последний из царскосельских лебедей", как назвал его Н. Гумилёв, Анненский был и остаётся трагической фигурой в русской поэзии: не получил признания и славы в своём времени, не был понят и узнан при жизни. "А тот, кого учителем считаю,/ как тень прошёл и тени не оставил..." - сказала о нём Ахматова . Однако в этом поэте, далеко опередившим своих современников, уже угадывались будущие интонации Блока, Хлебникова, Маяковского, Пастернака. Владимир Корнилов писал об Анненском:
Пастернак, Маяковский, Ахматова
от стиха его шли и шалели,
от стиха его, скрытно-богатого,
как прозаики от "Шинели".
Этим в какой-то степени компенсировалась непризнанность Анненского при жизни - реваншем грядущих голосов в поэзии, в которых звучали его интонации, его ноты.
Филолог-эллинист по специальности, педагог по профессии, директор гимназии, член учёного комитета Министерства просвещения, чиновник, загруженный канцелярской работой, - наедине с собой он был поэтом.

Но в праздности моей рассыпаны мгновенья,
когда мучительны душе прикосновенья,
и я дрожу средь вас, дрожу за свой покой,
как спичку на ветру загородив рукой...
Пусть это только миг... В тот миг меня не трогай.
Я ощупью иду тогда своей дорогой.
Гимназисты обожали его (среди них были Николай Гумилёв, художник Юрий Анненков). Курсистки восторженно переписывали в тетрадки стихи своего учителя:
Ещё не царствует река,
но синий лёд она уж топит.
Ещё не тают облака,
но снежный кубок солнцем допит.
Через притворенную дверь
ты сердце шелестом тревожишь.
Ещё не любишь ты, но верь:
не полюбить уже не можешь.

Нерадостный поэт
Иннокентий Анненский считается представителем символизма в поэзии, но он был необычным символистом. Может быть, даже не вполне им был. Он не вмещался в русло этого течения. Поэзия Анненского при всей её интеллектуальной сложности и аллегоричности никогда не страдала невнятицей, оторванностью от жизненных реалий, чем грешат многие символисты. И ещё он отличался от них тем, что никогда не считал себя пупом земли, центром вселенной, и обида куклы была для него жалчей его собственной.
Эта тема кажется мне главной в его поэзии: жалость к людям. Она проявляется у Анненского не прямо, а как-то стыдливо, опосредованно, через жалость и сочувствие к вещи: к кукле, ради забавы брошенной в струю водопада, старой шарманке, "что никак не смелет злых обид
", выдыхающемуся воздушному шарику("всё ещё он тянет нитку и никак не кончит пытку
"). Мы открываем в его стихах "вещный мир", больно и страстно сцепленный с человеческим существованием. Старая кукла, смычок и струны, шарманка, маятник и часы, "шар на нитке тёмно-алый" выступают в лирике Анненского не просто как образы, аллегории, а как соучастники и свидетели скрытого трагизма жизни. Человек жалеет вещь, и она отвечает ему взволнованно-страстным рассказом о его же, человека, страданиях, приоткрывая всю темноту и глубину муки - так глубоко, как Анненский, - до него и после него - не заглядывал ни один поэт.
Но когда б и понял старый вал,
что такая им с шарманкой участь,
разве б петь, кружась, он перестал,
оттого, что петь нельзя, не мучась?
Смычок всё понял. Он затих,
а в скрипке эхо всё держалось...
И было мукою для них,
что людям музыкой казалось...
Вот уже век, как мы слышим эту мистическую музыку недосказанности человеческого сердца. Вся его поэзия - это летопись одинокой души человека. Но не нужно пугаться "мрачности" и всего того, что причиняет нам боль в искусстве. Есть такое прекрасное слово: "катарсис". Стихи Анненского дают нам пережить его.

Биография Иннокентия Анненского предельно скудна и незамысловата. Глубокая и сильная жизнь творилась в нём самом. Но и в этой несложной биографии были примечательные события, без знания которых не постигнуть ни его личности, ни творческого пути, ни странной судьбы поэта.
Закончив гимназию в 1875 году, он поступает в Петербургский университет на историко-филологический факультет, где избрал своей основной специальностью классическую филологию.

Ещё в гимназии он увлекался древними языками, потом греческой мифологией, римской историей и литературой. Античный мир обладал для него особым очарованием, и он скоро ушёл в него с головой.
Из-за стеснённого материального положения Анненский был вынужден заниматься репетиторством. Он стал домашним учителем двух сыновей-подростков Надежды Хмара-Барщевской, вдовы, которая была старше его на 14 лет.

Разница в возрасте не помешала поэту пылко влюбиться. Он женится на ней и усыновляет её детей. Через год у них рождается сын. Однако эта женщина ничем не обогатила музу Анненского, не стала для него источником тех сильных переживаний, что вносили в жизнь других поэтов их подруги. Сергей Маковский рисует в своих воспоминаниях почти сатирический её портрет:
" Семейная жизнь Анненского осталась для меня загадкой. Жена его была совсем странной фигурой. Казалась гораздо старше его, набеленная, жуткая, призрачная, в парике, с наклеенными бровями. Раз за чайным столом смотрю — одна бровь поползла кверху, и всё лицо её с горбатым носом и вялым опущенным ртом перекосилось. При чужих она всегда молчала. Анненский никогда не говорил с ней. Какую роль сыграла она в его жизни?.. "
О семейной жизни Анненского нам известно очень мало. Сам он не писал ни мемуаров, ни дневников, и лишь в стихах изредка встречаются редкие отголоски этой жизни.
Вот как, например, в этом, одном из ранних его стихотворений:
Нежным баловнем мамаши
то большиться, то шалить...
И рассеянно из чаши
пену пить, а влагу лить...
Сил и дней гордясь избытком,
мимоходом, на лету
хмельно-розовым напитком
усыплять свою мечту.
Увидав, что невозможно
ни вернуться, ни забыть...
Пить поспешно, пить тревожно,
рядом с сыном, может быть,
под наплывом лет согнуться,
но, забыв и вкус вина...
По привычке всё тянуться
к чаше, выпитой до дна.
Он был хорош собой. Большие печальные глаза, немного припухлый рот, выдававший в нём мягкость и природную доброту. Чёрный шёлковый галстук он завязывал по-старомодному широким, двойным бантом. В его манерах — учтивых, галантных, предупредительных, было что-то от старинного века.

К творчеству он относился трогательно:
Но я люблю стихи — и чувства нет святей.
Так любит только мать и лишь больных детей.
Имена корифеев символизма гремели тогда не только благодаря их стихам, но и в значительной степени за счёт поведения поэтов, их образа жизни, творимой на глазах биографии и легенды. Анненский же, хоть и повторял не раз: "Первая задача поэта — выдумать себя ", сам себя выдумать не умел. Он был подлинным, и в стихах, и в жизни. А тогда это было немодным.
Я люблю на бледнеющей шири
в переливах растаявший свет...
Я люблю всё, чему в этом мире
ни созвучья, ни отклика нет.
Ему тоже не было отклика в этом мире. Эстеты восхищались изысканной формой стихов Анненского, не замечая, не слыша их мучительной человеческой драмы. Это всё равно что на крик боли удовлетворённо констатировать, что у человека прекрасные голосовые связки. Этой нравственной глухотой эстетов возмущался В.Ходасевич :
"Что кричит поэт — это его частное дело, в это они, как люди благовоспитанные, не вмешиваются. А между тем каждый его стих кричит о нестерпимом и безысходном ужасе жизни". "Ведь если вслушаться в неё — вся жизнь моя не жизнь, а мука" .
Одно из его стихотворений называется: "Мучительный сонет ":
Едва пчелиное гуденье замолчало,
уж ноющий комар приблизился, звеня...
Каких обманов ты, о сердце, не прощало
тревожной пустоте оконченного дня?
Мне нужен талый снег под желтизной огня,
сквозь потное стекло светящего устало,
и чтобы прядь волос так близко от меня,
так близко от меня, развившись, трепетала.
Мне нужно дымных туч с померкшей высоты,
круженья дымных туч, в которых нет былого,
полузакрытых глаз и музыки мечты,
и музыки мечты, ещё не знавшей слова...
О дай мне только миг, но в жизни, не во сне,
чтоб мог я стать огнём или сгореть в огне!

М. Волошин писал об Анненском: "Это был нерадостный поэт" . Это действительно так. Мотив одиночества, отчаяния, тоски — один из главных у поэта. Он даже слово Тоска писал с большой буквы. Ажурный склад его души казался несовместимым с жестокими реалиями жизни.
В тоске безысходного круга
влачусь я постылым путём...
В своей статье "Что такое поэзия?" Анненский говорит: "Она — дитя смерти и отчаяния". Навязчивую мысль о смерти отмечал у него и Ходасевич, который назвал его "Иваном Ильичом русской поэзии". Неотвязная мысль о смерти была вызвана отчасти сердечной болезнью, которая постоянно держала поэта в ожидании конца, смерть могла настигнуть в любой момент. Но всё-таки трагизм его поэзии вряд ли проистекал от биографических причин (в частности, от болезни). Ходасевич слишком упростил пессимизм Анненского, объясняя его поэзию страхом перед смертью. Люди такого духовного склада не боятся физической смерти. Его страх — совсем иного, метафизического порядка.
Сейчас наступит ночь. Так чёрны облака...
Мне жаль последнего вечернего мгновенья:
там всё, что прожито — желанья и тоска,
там всё, что близится — унылость и забвенье.
Как странно слиты сад и твердь
своим безмолвием суровым,
как ночь напоминает смерть
всем, даже выцветшим покровом.

Невозможно
Анненский боится смерти, но не меньше боится и жизни. И не знает: в жизнь ли ему спрятаться от смерти — или броситься в смерть, спасаясь от жизни. У него почти нет стихов о любви в обычном смысле, какие есть у Блока, Бальмонта, Брюсова. Есть стихи, обращённые к женщинам, большей частью нерадостные, печальные. Женский образ в них всегда зыбкий, бесплотный, не поддающийся портретному описанию. Тем не менее под ним нередко скрывался реальный прототип.
С Екатериной Мухиной Анненский познакомился вскоре после того, как получил назначение на должность директора в Царскосельской гимназии. Муж её, преподаватель истории нового искусства, был сослуживцем поэта. Историю их отношений можно представить в самых общих чертах — по письмам и стихам.
"Но что же скажу я Вам, дорогая, Господи, что я вложу, какую мысль, какой луч в Ваши открывшиеся мне навстречу, в Ваши ждущие глаза?
"
Наяву ль и тебя ль безумно
и бездумно
я любил в томных тенях мая?
Припадая
к цветам сирени
лунной ночью, лунной ночью мая,
я твои ль целовал колени,
разжимая их и сжимая,
в тёмных тенях,
в тёмных тенях мая?
Или сам я лишь тень немая?
Иль и ты лишь моё страданье,
дорогая,
оттого, что нам нет свиданья
лунной ночью, лунной ночью мая.

Это стихотворение "Грёзы" Анненский напишет в вологодском поезде в ночь с 16 на 17 мая 1906 года. А через день, 19 мая, он отправит Мухиной уже из Вологды письмо, которое трудно определить иначе, как любовное, хотя о любви в нём не говорится ни слова:
" Дорогая моя, слышите ли Вы из Вашего далека, как мне скучно? Знаете ли Вы, что такое скука? Скука — это сознание, что не можешь уйти из клеточек словесного набора, от звеньев логических цепей, от навязчивых объятий этого "как все". Господи! Если бы хоть миг свободы, безумия... Если у Вас есть под руками цветок, не держите его, бросьте скорее. Он Вам солжёт. Он никогда не жил и не пил солнечных лучей. Дайте мне Вашу руку. Простимся ."
Что счастье? Чад безумной речи?
Одна минута на пути,
где с поцелуем жадной встречи
слилось неслышное прости?
Или оно в дожде осеннем?
В возврате дня? В смыканьи вежд?
В благах, которых мы не ценим
за неприглядность их одежд?
Ты говоришь... Вот счастья бьётся
к цветку прильнувшее крыло,
но миг — и ввысь оно взовьётся
невозвратимо и светло.
А сердцу, может быть, милей
высокомерие сознанья,
милее мука, если в ней
есть тонкий яд воспоминанья.

Внутренне одинокий и осознающий трагизм своего одиночества, Анненский напряжённо искал выхода из него. Но не находил в себе сил для жизни. Он с безумной завистью и страхом смотрел на живую жизнь, проходившую стороной, и с горечью писал:
Любовь ведь светлая — она кристалл, эфир...
Моя ж — безлюбая, дрожит, как лошадь в мыле!
Ей — пир отравленный, мошеннический пир...
Это человек с раздвоенным сознанием, рефлектирующий, неуверенный в себе, мечтающий о счастье, но не решающийся на него, не признающий за собой на него права.
Даже в мае, когда разлиты
белой ночи над волнами тени,
там не чары весенней мечты,
там отрава бесплодных хотений.
Это целомудренно-пугливое сердце понимало любовь только как тоску по неосуществившемуся. Грустной нотой сожаления звучат многие стихи поэта, сожаления о неправильно прожитой жизни, в сущности, — непрожитой жизни.
Развившись, волос поредел.
Когда я молод был,
за стольких жить мой ум хотел,
что сам я жить забыл.
Любить хотел я, не любя,
страдать — но в стороне.
И сжёг я, молодость, тебя,
в безрадостном огне.
Сердце его было создано любящим и — как это свойственно людям глубоко чувствующим — стыдливо робким в своей нежности. Сам он шутливо называл его "сердцем лани". Небогатая внешними событиями, неяркая размеренная жизнь Анненского скрывала глубоко спрятанные страсти, лишь изредка вырывавшиеся наружу трагичными, полными боли стихами. Сейчас уже не вызывает сомнений, что поэт был страстно и тайно влюблён в жену старшего пасынка Ольгу Хмара-Барщевскую, часто и подолгу гостившую в Царском Селе. Это ей адресованы его строки:
И, лиловея и дробясь,
чтоб уверяло там сиянье,
что где-то есть не наша связь,
а лучезарное слиянье.
Сохранилось её письмо-исповедь, адресованное В.Розанову и написанное через 8 лет после смерти Анненского:
" Вы спрашиваете, любила ли я Иннокентия Фёдоровича? Господи! Конечно, любила, люблю... Была ли я его "женой"? Увы, нет! Видите, я искренне говорю "увы", потому что не горжусь этим ни мгновения... Поймите, родной, он этого не хотел, хотя, может быть, настояще любил только одну меня... Но он не мог переступить... Его убивала мысль: "Что же я? прежде отнял мать (у пасынка), а потом возьму жену? Куда же я от своей совести спрячусь?" И вот получилась "не связь, а лучезарное слиянье". Странно ведь в 20 веке? Дико? А вот — такие ли ещё сказки сочиняет жизнь?.. Он связи плотской не допустил... Но мы повенчали наши души..."

Документ этот всплыл чудом. Письма Анненского Ольга Хмара-Барщевская сожгла. Но в одном из стихотворений "Кипарисового ларца" под названием "Прерывистые строки" с подзаголовком "Разлука" Анненский прерывистым голосом, выдаваемым ломающимся ритмом, поведал об этой тайной любви, рисуя драму расставания на вокзале с любимой женщиной.

Этого быть не может,
это — подлог...
День так тянулся и дожит,
иль, не дожив, изнемог?
Этого быть не может...
С самых тех пор
в горле какой-то комок...
Вздор...
Этого быть не может.
Это — подлог.
Ну-с, проводил на поезд,
вернулся, и соло, да!
Здесь был её кольчатый пояс,
брошка лежала — звезда,
вечно открытая сумочка
без замка,
и так бесконечно мягка,
в прошивках красная думочка...
Зал...
Я нежное что-то сказал,
стали прощаться,
возле часов у стенки...
Губы не смели разжаться,
склеены...
Оба мы были рассеяны,
оба такие холодные, мы...
Пальцы её в чёрной митенке тоже холодные...
"Ну, прощай до зимы.
Только не той, и не другой,
и не ещё — после другой...
Я ж, дорогой, ведь не свободная..."
— Знаю, что ты — в застенке...
После она
плакала тихо у стенки
и стала бумажно-бледна...
Кончить бы злую игру...
Что ж бы ещё?
Губы хотели любить горячо,
а на ветру
лишь улыбались тоскливо...
Что-то в них было застыло, даже мертво...
Господи, я и не знал, до чего она некрасива...
Теперь очевидно, что волшебные строки Анненского, написанные за шесть дней до смерти, про дальние руки — о ней:
Мои вы, о дальние руки,
ваш сладостно-сильный зажим
я выносил в холоде скуки,
я счастьем обвеян чужим.
Но знаю...дремотно хмелея,
я брошу волшебную нить,
и мне будут сниться, алмея,
слова, чтоб тебя оскорбить.

(Позже под впечатлением этого стихотворения Блок напишет свои строчки, где слышен тот же мотив:
О, эти дальние руки!
В тусклое это житьё
очарованье своё
вносишь ты даже в разлуке.)
А окружающие думали: человек в футляре. Герой из чеховских сумерек. Персонаж без поступков, личность без судьбы, зато с порядочным трудовым стажем. Но с какой силой вырывается порой из его строф голос именно любви, в таких, например, стихах, как "Трилистник соблазна", или "Трилистник лунный", или "Струя резеды в тёмном вагоне":
Так беззвучна, черна и тепла
резедой напоённая мгла...
В голубых фонарях,
меж листов, на ветвях,
без числа
восковые сиянья плывут.
И в саду
как в бреду
хризантемы цветут...
Пока свечи плывут
и левкои живут,
пока дышит во сне резеда —
здесь ни мук, ни греха, ни стыда...
Вот она, эта эротика Анненского, недоговорённая, но так много говорящая:
В марте
Позабудь соловья на душистых цветах,
только утро любви не забудь!
Да ожившей земли в неоживших листах
ярко-чёрную грудь!
Меж лохмотьев рубашки своей снеговой
только раз и желала она —
только раз напоил её март огневой,
да пьянее вина!
Только раз оторвать от разбухшей земли
не могли мы завистливых глаз...
И, дрожа, поскорее из сада ушли...
Только раз... в этот раз...
В цикле стихов о поэтах у меня есть стихотворение об Анненском, в котором я нарисовала его портрет, каким он мне виделся:

Нерадостный поэт. Тишайший, осторожный,
одной мечтой к звезде единственной влеком...
И было для него вовеки невозможно —
что для обычных душ бездумно и легко.
Как он боялся жить, давя в себе природу,
гася в себе всё то, что мучает и жжёт.
"О, если б только миг — безумья и свободы!"
"Но бросьте Ваш цветок. Я знаю, он солжёт".
Безлюбая любовь. Ночные излиянья.
Всё трепетно хранил сандаловый ларец.
О, то была не связь — лучистое слиянье,
сияние теней, венчание сердец...
И поглотила жизнь божественная смута.
А пасынка жена, которую любить
не смел, в письме потом признается кому-то:
"Была ль "женой"? Увы. Не смог переступить".
Невозможность осуществления мечты, надежд поэт возводит в ранг творческой силы, делает своей печальной привилегией. Самоограничение, самообуздание, отречение почти от всего, чем манит белый свет — вот сквозная линия судьбы и творчества И.Анненского. Поэт творит красоту иллюзии. Оттого и прекрасно, что невозможно: Невозможно — тоже с большой буквы, как и Тоска.
Ключевым для своего лиризма Аннеский назвал стихотворение "Невозможно" — это как бы апофеоз этой темы, ведь любовь в его стихах — всегда "недопетое", подавленное чувство. "Невозможно" — элегическое стихотворение, печальное и светлое, посвящается его заглавному слову и сочетает в себе три мотива: мотив любви, смерти и поэзии. Обращаясь к этому слову, поэт говорит:
Не познав, я в себе уж любил
эти в бархат ушедшие звуки:
мне являлись мерцанья могил
и сквозь сумрак белевшие руки.
Но лишь в белом венце хризантем,
перед первой угрозой забвенья,
этих "в", этих "з", этих "эм"
различить я умел дуновенья.
Если слово за словом, что цвет,
упадая, белеет тревожно,
не печальных меж павшими нет,
но люблю я одно — "Невозможно".
Стоит здесь привести слова Ю. Нагибина :
"Анненский, как никто, должен был ощущать многозначное слово "невозможно", ибо для него существующее было полно запретов. Но это же слово служит и для обозначения высших степеней восторга, любви и боли, всех напряжений души. И что-то ещё в этом слове остаётся тайной поэта, и проникнуть в неё невозможно".
Смерть на вокзале
13 декабря (30 ноября) 1909 года Иннокентий Анненский скоропостижно умер от разрыва сердца на ступенях Царскосельского вокзала.

Незадолго до этого он подал прошение об отставке. 35 лет отдал Анненский делу отечественного просвещения, но служба эта всегда тяготила его, он мечтал о начале новой литературной жизни, свободной от бумаг, от нудных разъездов по непролазной Вологодчине и Оленецкому краю, когда можно будет наконец быть поэтом, а не поэтом-чиновником, маскирующим главное в себе. Но этим мечтам не суждено было осуществиться.
В тот вечер в обществе классической филологии был назначен его доклад, и кроме того он ещё обещал своим слушательницам-курсисткам побывать перед отъездом в Царском на их вечеринке. Курсистки долго ждали Анненского. Ждали и после того, как им разрешили разойтись по домам. Почти все они были влюблены в красивого меланхоличного педагога, о котором им было известно, что он пишет стихи, и у многих эти стихи были переписаны в альбомы. Они прождали около двух часов, а потом появился расстроенный директор и сказал, что Инокентий Фёдорович уже больше никогда не придёт...
Первым о смерти Анненского узнал Блок
, который был в тот вечер на Варшавском вокзале — ехал к умирающему отцу в Варшаву. И услышал, как сказал об этом один железнодорожник другому — весело, как о каком-то курьёзе... И Блок зло произнёс вслух, громко и отчётливо: «Ну вот, ещё одного проморгали...»
Я думал, что сердце из камня,
Что пусто оно и мертво:
Пусть в сердце огонь языками
Походит — ему ничего.
И точно: мне было не больно,
А больно, так разве чуть-чуть.
И все-таки лучше довольно,
Задуй, пока можно задуть...
На сердце темно, как в могиле,
Я знал, что пожар я уйму...
Ну вот... и огонь потушили,
А я умираю в дыму...

Анненского хоронили 4 декабря 1909 года на Казанском кладбище Царского села. Хоронили не как великого поэта, а как генерала, статского советника. В газетных заметках о его смерти поэзия вообще не упоминалась. Лишь Корней Чуковский проницательно заметил: «Как будут смеяться потом те, кто поймут твои книги, узнав, что когда-то, в день твоей смерти, в огромной стране вспомнили только твой чин, а богатых даров поэтической души не только не приняли, но даже и не заметил никто, - мой милый, мой бедный действительный статский советник...»
Отпевание вышло неожиданно многолюдным. Его любила учащаяся молодёжь, собор был битком набит учениками и ученицами всех возрастов. Он лежал в гробу торжественный, официальный, в генеральском сюртуке министерства народного просвещения, и это казалось последней насмешкой над ним — поэтом.
Талый снег налетал и слетал,
Разгораясь, румянились щеки,
Я не думал, что месяц так мал
И что тучи так дымно-далеки...
Я уйду, ни о чем не спросив,
Потому что мой вынулся жребий,
Я не думал, что месяц красив,
Так красив и тревожен на небе.
Скоро полночь. Никто и ничей,
Утомлен самым призраком жизни,
Я любуюсь на дымы лучей
Там, в моей обманувшей отчизне.

Его душа
Мало кто знает, что у Анненского есть ещё стихотворения в прозе, которые ничем не уступают тургеневским. Одно из них называется «Моя душа». Там он описывает собственную душу, увиденную им во сне. Душа была в образе носильщика, который тащил на себе огромный тюк, сгибаясь под этой тяжестью.
«...И долго, долго душа будет в дороге, и будет она грезить, а грезя, покорно колотиться по грязным рытвинам никогда не просыхающего чернозёма... Один, два таких пути, и мешок отслужил. Да и довольно... В самом деле — кому и с какой стати служил он?.. Мою судьбу трогательно опишут в назидательной книжке в 3 копейки серебра. Опишут судьбу бедного отслужившего людям мешка из податливой парусины. А ведь этот мешок был душою поэта — и вся вина этой души заключалась только в том, что кто-то и где-то осудил её жить чужими жизнями, жить всяким дрязгом и скарбом, которым воровски напихивала его жизнь, жить и даже не замечать при этом, что её в то же самое время изнашивает собственная, уже ни с кем не делимая мука».

Прошли годы. Иннокентий Анненский прошёл самое ужасное испытание — испытание забвением, его не просто забыли, его не помнили. Однако почти в каждом крупном русском поэте 20 века жил Иннокентий Анненский, жил и влиял на качество жизни и мысли. Тишайший, глубинный мир Анненского, знак его стиха оставлен и на поэзии Ахматовой, и Пастернака, он был одним из самых близких поэтов А. Тарковского, А. Кушнера. Оправдались его слова, сказанные в письме к другу: «Работаю исключительно для будущего». И оказалось, что этот мнимый неудачник — счастливейший из счастливых: своей жизнью и творчеством он победил время. Это удаётся единицам.


Среди миров, в мерцании светил
Одной Звезды я повторяю имя...
Не потому, чтоб я Ее любил,
А потому, что я томлюсь с другими.
И если мне сомненье тяжело,
Я у Нее одной ищу ответа,
Не потому, что от Нее светло,
А потому, что с Ней не надо света.

Хочется сказать, чуть изменив его стихи: «Не потому, что от него светло, а потому, что с ним не надо света».
Творчество самого старшего по возрасту поэта-символиста Иннокентия Федоровича Анненского (1855-1909) оказало едва ли не самое значительное влияние на всю русскую поэзию XX в.
И.Ф.Анненский родился 20 августа (1 сентября) 1855 г. в Омске, где его отец служил в Главном управлении Западной Сибири. В 1860 г. семья переехала в Петербург, здесь прошли детские годы будущего поэта. В 1879 г. он окончил историко-филологический факультет Петербургского университета по специальности «классическая филология». В дальнейшем, вплоть до 1906 г., Анненский преподавал древние языки в гимназиях, лицеях, на Высших женских курсах. Литературное творчество (переводы и оригинальные стихи) он рассматривал как хобби, долгое время не решаясь публиковать свои произведения. В 1870-е-1890-е гг. в журналах появляются только его литературно-критические статьи.
Единственный прижизненный сборник поэта «Тихие песни» вышел в свет в Петербурге в 1904 г. под псевдонимом Ник. Т-о — это русский аналог латинского имени «Утис» (Никто), которым хитроумный Одиссей назвался циклопу Полифему («Одиссея» Гомера). В 1900-е гг. были опубликованы также стихотворные трагедии Анненского на сюжеты античных мифов. Значительным событием этого периода стало издание двух сборников литературно-критических статей «Книги отражений». В последний год жизни поэт принимал активнейшее участие в организации модернистского журнала «Аполлон». Анненский скоропостижно скончался от сердечного приступа 30 ноября 1909 г. на царскосельском вокзале. В 1910 г. в Москве вышла в свет книга лирических шедевров Анненского «Кипарисовый ларец».
«Поэты говорят обыкновенно об одном из трех: или о страдании, или о смерти, или о красоте», — писал И.Анненский в одной из статей. Эта формула верна прежде всего по отношению к его собственному поэтическому миру. Он особенно любил в искусстве трагическое начало и острее своих современников реагировал на любые проявления жизненной дисгармонии. Подлинно трагическое мироощущение не имеет ничего общего с позицией тотального отрицания реальности, напротив, трагизм возможен лишь в том случае, если жизнь принимается человеком как драгоценный дар, как безусловная ценность. Лишь тот, кто по-настоящему ценит красоту природы, искусства, человеческого общения, способен остро переживать ее хрупкость, конечность, незащищенность от враждебных сил.
Мотивы страдания и смерти именно потому столь значимы в лирике Анненского, что они рождены опытом болезненного переживания быстротечности счастья и красоты. Страдание и красота для него — две стороны одной медали. «... Его страдающий человек страдает в прекрасном мире, овладеть которым он не в силах», — пишет известная исследовательница русской лирики Лидия Гинзбург. Высший вид красоты для Анненского — искусство слова, являвшееся для него главным оправданием жизни.
По своему мировоззрению и поэтическому стилю Анненский — символист. Но символы для него — не средство познания «непознаваемого», как для большинства других символистов, но особые образы, способные передать психологическое состояние человека. Символы в поэзии Анненского улавливают и образно закрепляют соответствия между жизнью души и ее природно-бытовым окружением. Поэтому взгляд поэта не устремлен в заоблачные дали, но направлен на земное существование человека. Вяч. Иванов называл символизм Анненского «земным» или «ассоциативным»: «Поэт-символист этого типа берет исходной точкой в процессе своего творчества нечто физически или психологически конкретное и, не определяя его непосредственно, часто даже вовсе не называя, изображает ряд ассоциаций, имеющих с ним такую связь, обнаружение которой помогает многосторонне и ярко осознать душевный смысл явления, ставшего для поэта переживанием, и иногда впервые назвать его — прежде обычным и пустым, ныне же столь многозначительным его именем».
Современные исследователи часто говорят о поэтическом стиле Анненского как о психологическом символизме. Источниками символизации для поэта часто служили конкретные детали современной ему цивилизации (крыши домов, плиты тротуара, перрон железнодорожного вокзала, станционный сторож) или подробности камерного быта (маятник, балкон, рояль, скрипка и т.п.). Эти и подобные им вещные образы присутствуют в стихах Анненского не столько в результате подробного описания предметов, сколько в форме переменчивой мозаики отдельных черточек, пунктирно обозначающих объект изображения.
Эта особенность изобразительной манеры Анненского напоминает об импрессионизме. В пейзажных зарисовках импрессионистический стиль Анненского проявляется в использовании разнообразных оттенков цвета, во внимании к изменчивым, едва уловимым состояниям природы, отражающим летучие внутренние состояния личности. С импрессионистическим стилем принято связывать и исключительное внимание поэта к звуковому потоку стиха, культивирование изысканных сочетаний звуков, фонетических повторов, разнообразных способов ритмического обогащения стиха.
В основе композиции как отдельных стихотворений Анненского, так и его сборника лирики «Кипарисовый ларец» — принцип соответствий, сцепленности всех вещей и явлений. Читателю предлагается своего рода поэтический ребус: нужно угадать, как связаны между собой попавшие в поле зрения лирического героя вещи с его настроением. Однако такая композиционная структура не имеет ничего общего со стремлением мистифицировать, озадачить читателя. Дело в том, что лирический герой сам погружен в сложные раздумья о «постылом ребусе бытия», он будто разгадывает собственные ощущения, не организованные логически. Потому так велика в стихах Анненского роль умолчания, когда поэт дает «нам почувствовать несказанное»; потому стихотворение часто строится на сложном узоре иносказаний (метафор и перифразов).
Индивидуальность лирического стиля Анненского сказалась и в разнообразии его поэтической лексики. Наряду с традиционной для поэзии лексикой он использовал такие разные лексические ресурсы, как философская терминология и «будничное» слово; галлицизмы (заимствования из французского; особенно любимо поэтом слово «мираж») и просторечные обороты («ну-ка», «где уж», «кому ж» и т.п.). По масштабам обновления поэтической лексики новаторство Анненского может быть сопоставлено с достижениями его великого предшественника Н.А.Некрасова.
Новизна поэтического стиля Анненского, сказавшаяся прежде всего в «заземлении» символистских абстракций, замене отвлеченных понятий их вещными эквивалентами, придании символу качеств предметного слова, — эта новизна обусловила промежуточное положение поэта между поколениями символистов и акмеистов. В поэзии «серебряного века» Анненский сыграл роль посредника между символизмом и постсимволистскими течениями (его наследие повлияло на поэзию А.А.Ахматовой, О.Э.Мандельштама, В.В.Маяковского).
Важнейшие черты поэтического стиля Анненского проявились в стихотворении «Смычок и струны». Оно, по свидетельству мемуаристов, было одним из самых любимых созданий Анненского. Будучи по возрасту намного старше всех других поэтов новых течений, он не любил демонстративных проявлений эмоций и обычно хорошо скрывал свои чувства под маской академической корректности. Однако, принимаясь зачтение «Смычка и струн», поэт не мог сохранить будничного тона, присущего ему при декламации собственных стихов.
«... Надрывным голосом, почти переставая владеть собой, произносил Анненский: «И было мукою для них, что людям музыкой казалось...» — вспоминал младший современник поэта С.К.Маковский. Очевидно, цитируемая им строчка воспринималась самим автором как эмоциональная кульминация, как смысловое ядро стихотворения.
Внешне стихотворение сочетает в себе признаки рассказа в стихах и драматического диалога (сам Анненский называл свои стихотворения «пьесами»). «Повествовательных!» план этой лирической пьесы намечен пунктиром глаголов совершенного вида: «зажег... взял... слил...не погасил... нашло». Интересно, что субъект этой череды действий обозначен предельно общо, неконкретно: сначала неопределенным местоимением «кто-то», а в финале — почти столь же неопределенным в контексте произведения существительным «человек». Восприятию читателя или слушателя предлагается лишь событийная рамка, как бы минимальная сюжетная мотивировка звучащего в «пьесе» диалога.
На фоне поэтической традиции отношения между человеческими переживаниями и внешним миром складываются в лирике Анненского по-новому. Мир чаще дается не прямыми описаниями, а через его отражения в душе человека. И наоборот: динамика душевных переживаний, «диалектика души» — через окружающий человека предметный мир. На первый взгляд, в таком соотнесении психологических процессов и внешнего мира нет ничего нового. Действительно, прием психологического параллелизма — один из древнейших выразительных приемов: он характерен, например, для народной поэзии. Однако в поэзии Анненского связь между переживанием лирического субъекта и состоянием окружающего мира прямо не декларируется, а улавливается читателем благодаря сложной системе образных ассоциаций и эмоциональных соответствий, потому что параллельные сферы даются не сплошными линиями, а прерывистым пунктиром.
Кроме того, внешний и внутренний миры не изображаются в его стихотворениях одинаково подробно. На первом плане в стихотворениях Анненского чаще всего оказывается внешний мир, а прямых обозначений чувств и душевных движений субъекта сравнительно немного. Другое важное новшество Анненского — использование будничных, повседневных подробностей «внешней» жизни. Если прежде образные эмоциональные параллели черпались поэтами прежде всего из мира природы (пейзаж, смена времен года, метеорологические явления), то Анненский смело использует в этой функции урбанистические подробности, детали городского быта. Именно детали городской жизни — транспорт, часы, обои, воздушный шарик, музыкальные инструменты, кукла — становятся в его лирике знаками душевного опыта, именно их поэт наделяет свойствами психологической «сверхпроводимости».
В качестве вещных знаков психологических отношений в стихотворении использована вынесенная в заголовок пара «Смычок и струны». Конкретность, вещественность этих предметов контрастирует с крайней зыбкостью человеческого присутствия. Происходит своеобразная инверсия отношений между субъектом и объектом: психологические качества (способность чувствовать, думать, страдать) переносятся на предметы. Сигнал этого переворота отношений — метафорическое использование слова «лики» по отношению к скрипке. «Два желтых лика, два унылых» при этом ассоциируются прежде всего с двумя деками скрипки: желтый лак их поверхности тускло отражает свет зажженных свечей.
Однако благодаря импрессионистической, летучей манере «портретирования» однозначной связи между словом «лики» и конкретной деталью не возникает: ассоциативно оно связывается и с главными «действующими лицами» лирического события — смычком и струнами, и — шире — с любыми двумя тянущимися друг к другу существами. Лирическая ситуация связывает между собой два предмета, но сами предметы истолкованы символически, вовлечены в психологическое движение и потому сигнализируют о мире человеческих отношений. Этому способствует и форма драматического диалога, разворачивающегося в центральной части стихотворения.
«Реплики» этого диалога фонетически и ритмически виртуозно имитируют прикосновение смычка к струнам. Особенно выразительны звуковые повторы в словосочетаниях «нас надо» и «ты та ли, та ли»: словарное значение этих слов будто растворяется в самой звуковой имитации игры на скрипке. Во второй, и третьей строфах заметно преобладание одно- и двусложных слов: прерывистость слов противодействует ритмической инерции четырехстопного ямба, насыщает строку сверхсхемными ударениями. Неровная, синкопическая пульсация этих строф как нельзя лучше соответствует возвратно-поступательным движениям смычка и в то же время отражает сложный характер отраженных в стихотворении движений души.
Миг переживаемого счастья неотделим от импульса боли, рождаемого сознанием того, что счастье мимолетно. Мгновение гармонии — будто кратковременный мираж на фоне «темного бреда» повседневности. Но стремление к гармонии неустранимо, даже если оно чревато гибелью, как неустранима роковая связь музыки и муки — таковы смысловые ассоциации, рождаемые движением стиха.
Человек в поэтическом мире Анненского жаждет преодолеть свое одиночество, стремится к слиянию с миром и с родственными ему душами, но вновь и вновь переживает трагические разуверения в возможности счастья. Прежде всего потому, что не может отрешиться от бремени собственного сознания. Присутствие обращенного на себя «гамлетовского» сознания передано в первой строфе интонацией недоумения и самоиронии. Череда тревожных вопросов, звучащих во второй-четвертой строфах, поддерживает картину мучительной работы сознания.
Раздельность и слитность для Анненского — сиамские близнецы человеческого восприятия, два нерасторжимых качества существования человека в мире. Если слитность и взаимодействие ассоциируются у него с миром чувств, с музыкой, с полетом воображения, со спасительной темнотой неведения, то оборотная сторона медали — раздельность, разъединение — неминуемо сопровождают мир рационального знания, жизненного опыта, дневного ясного видения.
Раздельность и слитность становятся двумя внутренними мотивами стихотворения «Смычок и струны». Момент предельного напряжения между этими мотивами приходится на последние два стиха четвертой строфы. Они связаны между собой контрастной парой утвердительного «да» и противительного «но». Полярность взаимодействующих сил отразилась и в грамматической оппозиции совершенного и несовершенного вида: моменты звучащей музыки переданы формами несовершенного вида (ластились, трепетали, отвечала, держалось, пели), в то время как «событийная» рамка стихотворения воплощена в формах совершенного вида, поддерживающего семантику конечности и разъединения.
Самая яркая сторона формы «Смычка и струн» — его фонетическая организация. Исключительное внимание к звуковому составу слов, к изысканным созвучиям, ассонансам и аллитерациям, — общее свойство символистской поэзии. Но даже на этом общесимволистском фоне акустические качества стиха Анненского выделяются высшей степенью выразительности. Во многом благодаря тому, что звучание его лирики неотторжимо от движения смысла.
Первостепенная роль в звуковом ансамбле стихотворения принадлежит гласным «о» и «у» (ударным в словах заголовка). Характерно, что логические акценты в первой строфе приходятся именно на те слова, в которых ударными гласными попеременно оказываются эти два звука («тяжелый, темный», «мутно-лунны», «столько», «струны»). Ассонансы на «о» и «у» составляют пунктирный звуковой узор всего стихотворения и создают ощущение мучительно рождающейся гармонии, будто отбрасывая друг на друга свои фонетические тени. Благодаря двум «сольным» звуковым партиям стихотворение движется к своей эмоциональной кульминации в предпоследней строфе. Она, эта кульминация, подготовлена рифмой «довольно — больно» и последним в стихотворении всплеском фонетической активности звука «о» в цепочке слов «Смычок всё понял». На этом звуковом фоне итоговое сопряжение слов «музыка» и «мука» производит впечатление траурного контраста, поддержанного в финальной строфе семантикой слов «свечи» и «черный бархат».
Разнозвучие «о» и «у», получивших статус двух неслиянных голосов, тем выразительнее, что логика лирического сюжета заставляет взаимодействовать «носителей» этих голосов: смычок и струны. Предметная семантика резко противоречит фонетике. В то время как логика ситуации напоминает о том, что обязательным условием звучания является взаимодействие, слияние, — фонетическое несходство двух голосов будто противится этой логике. Реальный эпизод игры на скрипке (точнее, его звуковая имитация) в третьей и четвертой строфах отмечен новой, нейтральной по отношению к взаимодействующим голосам оркестровкой: наиболее ответственные слова связаны ассонансом на «а» и аллитерацией на «т» и «л» («ты та ли, тали»; «ластились», «ластясь, трепетали»). Это и есть краткий миг мечты, мимолетного миража, разрушаемого вернувшимся сознанием: понимание восстанавливает разнозвучие.
Возвращение к исходной ситуации одиночества, раздельности подчеркнуто в тексте стихотворения чередой многоточий. Сигнализируемые ими паузы готовят к финальной картине рассветной тишины.
Сергей Александрович Есенин - яркий и талантливый поэт. В своем творчестве он разрабатывает поэтическую концепцию человека в этом огромном и пестром мире. Поэзия Есенина многоцветна, но не просто наделена красками, а органически слита музыкальностью и цветом с внутренним миром поэта и тем окружающим пространством, в котором он живет и творит.
В его ранней поэзии, еще очень спокойной и безмятежной, преобладают голубые и зеленые тона, перемежающиеся с белым «снегом черемухи». Сама Русь, величавая и неторопливая, шагнула на страницы есенинской лирики. Она еще спящая, безмятежная, освещенная золотыми лучами месяца.
Я не скоро, не скоро вернусь!
Долго петь и звенеть пурге,
Стережет голубую Русь
Старый клен на одной ноге.
Но знакомство с городом приносит в поэзию Есенина иныбл краски - серую и черную, золотистый цвет становится тускло-желтым, врываются резкие, контрастные цвета. Город чужд поэту, с его любовью к шири и простору необъятных полей.
Бродил я в каменной пещере,
Как искушаемый монах.
Как муравьи кишели люди
Из щелей выдолбленных глыб,
И, схилясь, двигались их груди.
Что чешуя скорузлых рыб.
Как об ножи стальной дорогой
Рвались на камнях сапоги,
И я услышал зык от Бога:
«Забудь, что видел, и беги»
Вновь в поэзии Есенина звучат деревенские мотивы, дорогие с детства картины всплывают в его душе. Но уже другие цвета появляются в его стихотворениях. Действительность отрезвила поэта, показала разные стороны жизни. На смену безмятежной юности пришла зрелость, опыт и первые горькие разочарования.
Отныне в его стихах будут преобладать красно-бордовые оттенки, цвета, политые золотым дождем солнечных лучей или осенним листопадом.
Все пройдет, как с белых яблонь дым.
Увяданья золотом охваченный,
Я не буду больше молодым.
Я теперь скупее стал в желаньях,
Жизнь моя? Иль ты приснилась мне?
Словно я весенней гулкой ранью
Проскакал на розовом коне.
Временами поэта заполняет «половодье» воспоминаний, возвращаются в его лирику зелено-голубые краски, нежность переполняет его стихи. Он безмерно любит свою «убогую» Русь, не надо ему другой земли, но как истинный художник и патриот он хочет перемен к лучшему. Прогресса не остановить, что бы он ни нес с собой. Поэт с грустью смотрит на безвозвратно уходящую старину, привычную, безмятежно дремлющую, но уже погибающую под напором прогресса.
Видели ли вы,
Как бежит по степям,
В туманах озерных кроясь,
Железной ноздрей храпя.
На лапах чугунный поезд?
По большой траве,
Как на празднике отчаянных гонок,
Тонкие ноги закидывая к голове,
Скачет красногривый жеребенок?
Милый, милый, смешной дуралей,
Ну куда он, куда он гонится?
Неужелъ он не знает, что живых коней
Победила стальная конница?
Повзрослевший поэт смотрит на окружающий мир мудрыми, все понимающими глазами. Его охватывает грусть от быстротечности времени. «Все мы, все мы в этом мире тленны», но бег времени не остановить, и поэт принимает данность такой, какая она есть. Ему жаль времени, растраченного впустую, может быть, поэтому краски в его стихах резко поменяли свои цвета. Отныне бордово-красный и золотой будут основными в его стихах. Эти тона символизировали для поэта зрелость, которую он сравнивал с осенью года. Это красивая и яркая пора, но она грустна, так как за ней идет зима - старость с контрастными белым и черным цветами. Нет уже того буйства цвета и «половодья чувств».
В 1925 году как-то очень трагично и безысходно зазвучала поэзия Есенина. Он старается достойно завершить начатое, но грусть прорывается в каждом стихотворении. Неизбежность ухода почти фатальная. Поэт как бы видит свой конец, ничего не предпринимая, чтобы остановить неизбежное.
Кто я? Что я? Только лишь мечтатель.
Синь очей утративший во мгле.
Эту жизнь прожил я словно кстати.
Заодно с другими на земле.
И еще безысходнее звучат эти строки:
До свиданья, друг мой, без руки, без слова.
Не грусти и не печаль бровей,-
В этой жизни умирать не ново,
Но и жить, конечно, не новей.
Но для читателей Есенин остался все же молодым и необычайно лиричным поэтом. Его стихи, наполненные любовью к России, учат нас быть преданными ей, стране, которую он так любил. Поэт завещает нам нести эту любовь и преданность России - великой стране, нашей общей Родине.
Прекрасная, яркая, звонкая и многоцветная лирика Сергея Есенина наполнена высоким патриотизмом. О чем бы ни писал поэт - это все о России. Она представляется автору то нежной девушкой-березкой, то «синью, упавшей в реку», то кроткой и безмятежной, то мятущейся и гордой, но всегда бесконечно любимой. Топи да болота, Синий плат небес. Хвойной позолотой Взвенивает лес. Есенину сродни необозримые просторы России, он мыслит космическими масштабами, включая в свои стихи землю и небо. Дух захватывает от образов, которыми мыслит поэт, от эпитетов, которыми награждает все сущее. Любимым приемом автора является олицетворение. Он обращается к деревьям и травам, рекам и озерам, степям и полям, как к близким друзьям, включая их в свой доверительный разговор. Отсюда особое родство поэта с окружающим миром, полное слияние с природой, к которым постоянно стремится автор. Если нет этой гармонии, поэт испытывает тоску, грусть, дискомфорт. Его друг - природа чутко реагирует на состояние автора, или наоборот. Есенин прекрасно видит настроение окружающего мира, умеет чутко передать его в красках. Черная, потом пропахшая выть! Как мне тебя не ласкать, не любить? Выйду на озеро в синюю гать, К сердцу вечерняя льнет благодать. Серым веретьем стоят шалаши, Глухо баюкают хлюпь камыши. Красный костер окровил таганы, В хворосте белые веки луны. Контрастные цвета создают внутреннюю напряженность повествования, психологизм присутствует в каждом двустишье. Удивительно точно и драматично передана поэтом тоска, звучащая в русской народной песне, ее лирическая красота. Зеленый и голубой - традиционные цвета России в поэтическом мире Есенина. Автор часто соединяет их, давая как оттенки один другого. С детства воспитанный в православной семье, Есенин не мог не знать, что голубой цвет - это покровительство девы Марии, заступницы Руси, и цвет непорочности, чистоты. Такою он видит свою родину - возвышенной и прекрасной. За темной прядью перелесиц, В неколебимой синеве, Ягненочек кудрявый - месяц Гуляет в голубой траве. Позже появится серый, вместо золотистого - лимонно-желтый. Таким представляется автору бездушный город, со зданиями- скелетами, улицами- «каменными пещерами». Нет гармонии в окружающем мире, и в поэтике слышится диссонанс: «визжат дроги», «стонет коровий рев теней»... Совсем иное видится поэту на родных просторах; он ощущает радость, путешествуя по отчему краю. Дремлет взрытая дорога. Ей сегодня примечталось, Что совсем-совсем немного Ждать зимы седой осталось. Ах, и сам я в чаще звонкой Увидал вчера в тумане: Рыжий месяц жеребенком Запрягался в наши сани. Поэтический дух Есенина напрямую связан с настроением поэта, общим состоянием окружающего его мира. Со зрелостью и мудростью он связывает багрово-красные и золотисто-оранжевые тона. Отговорила роща золотая, Березовым, веселым языком, И журавли, печально пролетая, Уж не жалеют больше ни о ком. Не обагрят рябиновые кисти, От желтизны не пропадет трава, Как дерево роняет тихо листья, Так я роняю грустные слова. Удивительно нежная, напевная и красочная поэзия Есенина оставляет в душе читателя неизгладимый след, учит быть преданным, самоотверженным и верным сыном великой и многострадальной страны - России.
Нужно скачать сочиненение? Жми и сохраняй - » Роль цвета в поэтическом мире С. Есенина . И в закладках появилось готовое сочинение.Цели:
- познакомить учащихся со своеобразием поэтического таланта Сергея Есенина;
- показать на примерах цветовую палитру поэта по периодам;
- вызвать у детей эмоционально-образный отклик на произведения Есенина.
ХОД УРОКА
Урок начинается с просмотра фрагмента из к/ф «Сергей Есенин»по одноименному роману Виталия Безрукова.
1. Вступительное слово учителя (Приложение 1 . Слайд 1)
С. А. Есенин – это один из самых выдающихся
представителей лирической поэзии XX века. Он
вошел в русскую поэзию как певец родной земли,
тонко чувствующий и вдохновенно воспевающий
красоту и поэтичность русской природы. Поэзия
наполнена чувством искренней сыновней любви к
родному краю, чувством сопричастности к
происходящему вокруг.
Уже ранние стихи Есенина отличались
самобытностью и свежестью образов, были
наполнены шорохом листьев и шумом дождей,
многоцветьем красок, пьянящим ароматом. Ведь
поэт с ранних лет тесно общался с природой. И
особенность его поэтичного мышления заключалось
в том, что через образы родного края он
постигал сложность бытия, человеческих судеб,
жизнь собственной души.
В поэтической образности С.Есенина важное место
занимает цветопись; владение этим искусством
досталось как драгоценное наследство от устной
речевой стихии. Но главным учителем и кладезем
цветовой гармонии для поэта была русская
природа:
Я учусь, я учусь моим сердцем
Цвет черемух в глазах беречь.
Богатство есенинского радужного спектра возможно сравнить лишь с красками природы. Поэт оперирует всеми цветами, окружающими его: синим, голубым, золотым, розовым, желтым, зеленым, коричневым, черным, белым. (Приложение 1 . Слайд 2)
Уловив «узловую связь природы с сущностью человека» Есенин изображает эволюцию своего лирического героя как частицы природы, проходящей годовой цикл жизни: (Приложение 1 . Слайд 3)
Рождение – весна
Расцвет – лето
Увядание – осень
Смерть – зима.
Причем эти периоды жизни лирического героя-поэта, являющиеся и этапами эволюции его художественного мира, Есенин окрасил в соответствующие временам года тона:
Голубой
Красно-розовый
Желтый
Черно-белый
2. Выступление учащихся (групповая поисковая работа) о весеннем периоде творчества С.Есенина (Приложение 1 . Слайд 4)
Весенний, дореволюционный период есенинского творчества окрашен в голубой цвет со всеми его оттенками. Если обратить внимание на пейзажи, то они тоже очень красочны, выразительны и, что особо важно, наполнены голубизной: «В прозрачном холоде заголубели долы…», «Летний вечер голубой…», «Синяя вьюга…» Голубизна в стихотворениях – то нежная, перламутровая, то глубокая до синевы. А вот, если обратим внимание на стихотворение «О, Русь – малиновое поле», то уже сочетание синего и малинового цветов придает пейзажу особую выразительность:
О, Русь – малиновое поле
И синь, упавшая в реку, –
Люблю до радости и боли
Твою озерную тоску.
Поэзия Есенина словно озарена высоким и чистым светом любви к своей родине. Родина, Русь, родная земля – вот тот источник, из которого поэт черпает и силы, и вдохновения, что несет в себе и радость, и печаль. Цветовые тона усиливают ощущения необъятности просторов: «только синь сосет глаза…», «солнца струганные дранки загораживают синь…», «… вечером синим, вечером лунным…», «синь, упавшая в реку…». Этим выражается чувство любви и нежности. Есенин видел Русь в радости весеннем убранстве, с пахучими летними цветами и травами, с бездонной синевой небес, с прихотливо извилистыми реками, веселыми рощами. И поэт не жалел красок, чтобы ярче передать богатство и красоту русской природы. В голубые и радостные тона окутана Россия в стихах Есенина. «Опять ты вновь заголубела, моя родимая земля», – пишет он. «Заголубели долы», вокруг «синяя ширь», от воды «синь во взорах».
Синее и голубое – это цвет земной атмосферы и воды, он преобладает в природе независимо от времени года, в нем меняются только оттенки. И поэт не ограничивается простым воспроизведением красок природы, он не копирует их, а как я заметила, каждая краска имеет свой смысл и содержание. Синий – цвет покоя и тишины. А голубой очень близок по своему значению синему, но в нем есть радостное ощущение простора. Сочетание же голубого и синего цвета дают романтическое настроение: «Май мой синий! Июнь голубой!» – восклицает поэт, и я чувствую, что здесь не просто названы месяцы весны и лета, здесь думы о юности и молодости.
Голубой цвет не случайно определил сущность весеннего периода есенинского творчества: ведь он действительно доминирует в весенней природе Руси и, кроме того, считается «по традиции цветом не бытовым, а как бы символическим, означающим «божественность»… (А.Марченко).
3. Выступление учащихся (групповая поисковая работа) о летнем периоде творчества С.Есенина (Приложение 1 . Слайд 5)
За долгой весной в поэзии Есенина наступает короткое красное лето – двухлетний период революционного энтузиазма:
И лето такое короткое,
Как майская теплая ночь
Поэт окрашивает художественный мир в огненные тона (красный, розовый, малиновый, алый).
В 1917, революционном, году количество красных, розовых, огненных, солнечных, золотых образов в лирике Есенина растет. Революция – «заря молитвенником красным пророчит благостную весть». И родина теперь для Есенина не «голубая», а «златая Русь». Теперь для поэта вся «Земля …златая «, она объята революционным пожаром: в мужичьих яслях/ Родилось пламя/ К миру всего мира!».
«Зарево красных зарниц» осветило
весь есенинский революционный мир.
Какое разнообразие оттенков! А красный может
быть – багряным, алым, розовым, рдяным… Я думаю,
что Есенин занимает, бесспорно, первое место по
использованию цветов.
В осенние дни, когда так прозрачно холодное небо, когда шелестит опавшая листва под ногами, почти каждый способен увидеть в «стране березового ситца» осыпанную красной ягодой рябину сквозь призму есенинского четного, но неназойливого оксюморона. И Есенину наиболее заметно удалось передать это настроение.
В саду горит костер рябины красной,
Но никого не может он согреть…
Есенин ярко показывает красочность лета: «в кустах багряных», «с алым соком ягоды», «алый свет зари», «полей малиновая ширь…», «… зарево красных зарниц»… Красный он и алый, и розовый, и малиновый, и рдяной. А одно слово «розовый» создает незабываемую картину:
Я теперь скупее стал в желаниях,
Жизнь моя, иль ты приснилась мне?
Словно я весенней гулкой ранью
Проскакал на розовом коне.
Розовый конь? Мне кажется, что цвет очень точен. Знакомясь с критическими статьями о Есенине, я столкнулась с размышлениями К. Ваншенкина. Вот, что он сказал по этому поводу:
«Розовый конь? Это показалось нелепым, неестественным. Я с удивлением перечитал эти строки и вдруг вздрогнул от неожиданно раскрывшейся передо мной картины. Ведь это была рань – конь, вероятно, был белый, но в лучах восходящего солнца стал розовый. И все вокруг было розоватое, в дымке. А в ушах долго не стихал стук копыт. Я никогда не встречал подобного у других поэтов».
4. Выступление учащихся (групповая поисковая работа) об осеннем периоде творчества С.Есенина (Приложение 1 . Слайд 6)
Но есенинское лето оказалось слишком коротким по сравнению с весной, а затем и с затянувшейся осенью. «Не сладились и не сбылись/ Эти помыслы розовых дней». И в поэтическом мире Есенина наступает осень – «скорбный срок»: «золотой октябрь осыпает перстни/ С коричневых рук берез…Срежет мудрый садовник осень/ Головы моей желтый лист», постепенно остывающие осенние краски увядания(желтые, «лимонные», медные, «ржавые», «оловянные», серые, пепельные,) с отдельными яркими вспышками, заливают есенинский поэтический мир. Есенин говорит о том, что «судьба…перекрасила» весь мир: и природу, и страну, и самого поэта, и его лирического героя. В облике России появилась «грусти ивовая ржавь». Лирический герой Есенина хочет быть «желтым парусом,/ В ту страну, куда мы плывем», но «Одержимый тяжелой падучей», он «душой стал, как желтый скелет».
Стихотворения Есенина отличаются обилием разнообразной краски. Цветовая палитра сложна, многокрасочна и выразительна. Мне кажется, что поэт тонко чувствует цвета. Он использует разнообразные оттенки. Вот, например, желтый цвет может быть ржаным и овсяным, золотистым и соломенным, песочным и солнечным…
Природа многокрасочна и многоцветна. Цветовая гамма способствует и передаче тончайших состояний человеческой души:
Не жалею, не зову, не плачу,
Все пройдет, как с белых яблонь дым.
Увяданья золотом охваченный,
Я не буду больше молодым.
«Золото увяданья…» Этот образ, проходящий через всю лирику Есенина и значивший для него много, говорит о том, в какие тона окрашены были есенинские «мысли о старости и тлене». Цвета «золотой осени» – желтизна, багрянец, медленный листопад – это символ убывающих жизненных сил и ясная «осенняя» мысль о прожитом, об утраченном, о неповторимом и острая, повышенная чувствительность к прелести мира.
5. Выступление учащихся (групповая поисковая работа) о зимнем периоде творчества С.Есенина (Приложение 1 . Слайд 7)
Со второй половины 1925 года в художественно-философском мире Есенина наступает зима:
Снежная равнина, белая луна,
Саваном покрыта наша сторона.
И березы в белом плачут по лесам.
Кто погиб здесь? Умер? Уж не я ли сам?
Поэзия Есенина пронизана щемящим ощущением постоянно витающей вокруг смерти. В ней есть огромная жалость об увядании и краткости жизненных сроков, страх перед вечной немотой и беспамятством…
Я могу сказать, что лирика Есенина отнюдь не светлая. Она говорит и о «роковом», о смерти, о несчастиях, о слабости и тлене, об отвергнутой любви и изменившей дружбе, о загубленной жизни. Об этом думает, об этом говорит Есенин. И эти слова являются последними в его творческой деятельности. Всё чаще начинают преобладать оттенки темного, черного, серого: «приоткинув черную чадру», « серая гладь», «в эту серую морозь и слизь», « черный Человек», «в белом плачут по лесам», «забивает крышу белыми гвоздями…», « черная гибель…».
Единство самых разнообразных впечатлений, органический сплав цветовых образов находим в стихотворениях Есенина.
Как тяжело и одиноко было порой Есенину. Он остро чувствовал « черные силы», все неотступней и ближе подступавшие к его душе. Это страшный облик «черного», «серого встает перед поэтом в конце его творческой деятельности.
Мир Есенина находится в вечном борении человеческих страстей, непримиримости добра и зла, света и тьмы.
Есенин был полон светлой поэтической силы. Стихи, полные обжигающей чистотой чувств, сердечной правдой, болью больших страстей, ударили по сердцам. Они прозрачны и чисты. В них и восторг, и любовь ко всему живому, и печаль большого сердца.
Несказанное, синее, нежное…
Тих мой край после бурь, после гроз,
И душа моя – поле безбрежное –
Дышит запахом меда и роз.
6. Заключение (Приложение 1 . Слайд 8)
Завершает жизненный путь
лирического героя и самого поэта последнее
стихотворение, написанное кровью за день до
трагического конца: «До свиданья, друг мой, до
свиданья…» погиб Есенин – человек, но
«предназначенное расставанье/обещает встречу
впереди».
Началось бессмертие Поэта…
Он, как будто чародей,
Превращал зарю в котенка,
Руки милой – в лебедей,
Светлый месяц в жеребенка.
Говорить учил леса,
Травы, рощи в брызгах света.
И слились их голоса
С чистым голосом поэта. (Николай Кутов)
Дай отоспаться в холоде дьявольской пустоты. (с) // Воскреснув от смертельного яда и рикошетом раня других. (с) // Я ухожу от тех, кем я болею, как простудой. (с) // the queen of the superficial. (с)
«Душа писателя поневоле заждалась среди абстракций, загрустила в лаборатории слов. Тем временем перед слепым взором ее бесконечно преломлялась цветовая радуга. И разве не выход для писателя - понимание зрительных впечатлений, уменье смотреть? Действие света и цвета освободительно. Оно облегчает душу, рождает прекрасную мысль».
Цвета в поэзии используют не только для выражения мыслей, но и чувств и эмоций. Кроме того, по палитре используемых цветов можно лучше понять самого поэта, его мировоззрение, характер. Несмотря на это, большинство поэтов используют вместо света и цвета абстракции.
В своей статье "Краски и слова" Александр Блок о таких писал, что они "отупели к зрительным восприятиям". Но так же он был уверен, что через несколько лет появится поэт, который "привнесёт в поэзию русскую природу с изумительными по своей простоте красками".
Этим поэтом стал Сергей Есенин.
Цвета в произведениях Есенина и Блока встречаются в лирике гражданской, любовной и пейзажной. В своём сочинении я хочу остановиться только на одном аспекте: значение цвета в любовной лирике.
Разумеется, у двух поэтов, хотя и живших в разное время, но родившихся и получивших образование и воспитание в разных местах, один и тот же цвет не может иметь одинаковое значение.
Есенину ближе оттенки голубого, золотого, зелёного и алого, свойственные фольклору и древнерусской живописи. Это цвета его Родины, его корней, его происхождения.
Блок чаще всего использовал в своём творчестве тёмно-синий, красный, чёрный и белый - цвета города. Блок – поэт-символист и для создания своих образов-символов он постоянно использует цвет.
Мы можем рассмотреть лишь малую часть их палитры.
В энциклопедии цветов даётся следующая трактовка значений красного: он ассоциируется с неистовой жаждой жизни, кровью, огнём и страстью. У Александра Блока он означает ожидание встречи с любимой:
Там жду я Прекрасной Дамы
В мерцаньи красных лампад.
У Сергея Есенина же красный цвет – это любовь:
Красной розой поцелуи веют...
Близок к красному цвет розовый, он объединяет страсть с чистотой, романтикой, свежестью, утонченностью и нежностью.
У Блока это – исчезающие, словно лучи рассвета, мечты:
Ухожу в розовеющий лес...
Ты забудешь меня, как простила.
Есенин же не меняет первоначального значения цвета, создавая с его помощью нежный, утончённый образ любимой:
На закат ты розовый похожа
И, как снег, лучиста и светла.
Золотой цвет - символ славы, победы, торжества и независимости.
При помощи этого цвета Александр Блок изображает гордую, независимую, яркую женщину:
Молодая, золотая,
Ярким солнцем залитая,
Шла ты яркою стезею.
У Сергея Есенина же этот цвет ассоциируется с осенью, ещё яркими воспоминаниями о прошлом, которое уже не вернуть:
Мне бы только смотреть на тебя,
Видеть глаз злато-карий омут.
И чтоб, прошлое не любя,
Ты уйти не смогла к другому.
Рядом с золотым – цвет желтый, цвет солнца и лета. Но в некоторых случаях он может обозначать ревность и измену.
Блоку и его лирическому герою близко второе значение:
Мелькали жёлтые огни
И электрические свечи.
И он встречал её в тени,
А я следил и пел их встречи.
У Есенина жёлтым окрашены те воспоминания, которые уже потускнели в памяти, оставив после себя только лёгкую печаль:
Ведь не осталось ничего,
Как только жёлтый тлен и сырость.
В той же энциклопедии про зелёный цвет читаем: «это символ спокойствия, мира, молодости и надежды».
Именно надежду – робкую, затаённую – этот цвет олицетворяет у Блока:
Я и молод, и свеж, и влюблён,
Я в тревоге, в тоске и в мольбе,
Зеленею, таинственный клён,
Неизменно склонённый к тебе.
Но в русском языке есть такое выражение – «тоска зелёная», и у Есенина этот цвет показывает именно это чувство:
В глазах пески зеленые
И облака.
...
То близкая, то дальняя,
И так всегда.
Судьба ее печальная -
Моя беда.
Любимые многими людьми лазурный и родственный ему голубой – цвета веры и надежды, одухотворённости и даже космоса.
Но и у Александра Блока ("Шли мы стезею лазурною, только расстались давно"), и у Сергея Есенина ("Пройдут голубые года») – это время, которое разделяет людей, но не позволяет им забыть друг друга.
Рядом с лазурью и голубизной – более тёмный цвет, синий, обозначающий спокойствие и умиротворённость, а также – тоску и верность.
У Блока синий – это непреодолимое расстояние:
Даль опустила синий полог
Над замком, башней и тобой.
Прости, царевна. Путь мой долог.
Иду за огненной весной.
Синий для Есенина – звенящая тишина, которая наступает после только что отбушевавшей стихии:
Несказанное, синее, нежное...
Тих мой край после бурь, после гроз.
У белого цвета также существуют два значения. Он может символизировать чистоту и непорочность (и часто ассоциируется с невестой), но, с другой стороны, белый – это безмолвие и смерть.
У Блока оба значения «переплетаются» между собой и плавно сменяют друг друга. Сначала возлюбленная лирического героя, словно невеста, появляется в белом платье:
Я любил твоё белое платье,
Утончённость мечты разлюбив.
А затем белый становится цветом смерти любви:
Всё померкло, прошло, отошло..
Белый стан, голоса панихиды.
У Есенина девушка в белом, даже если она ушла к другому, всё равно остаётся символом чистоты и непорочности:
И теперь ты другому смеёшься,
Укрываяся в белый платок.
Противоположен белому чёрный цвет - абсолютное отрицание, тайна, бездна, темнота. Чаще всего он ассоциируется со смертью и трауром.
Для Александра Блока это одиночество и приближающаяся старость:
Уже двоилась, шевелясь,
Безумная, больная дума...
....И залила мою весну
Волною чёрной и бесшумной.
А для Сергея Есенина это тайна:
Ты вошла под чёрным покрывалом
И, поникнув, стала у окна.
Часто можно услышать выражение «музыка стиха». А я попыталась провести небольшое исследование языка великих мастеров и показать, что стихотворные строки для поэта – это не только нотный стан, но и палитра.