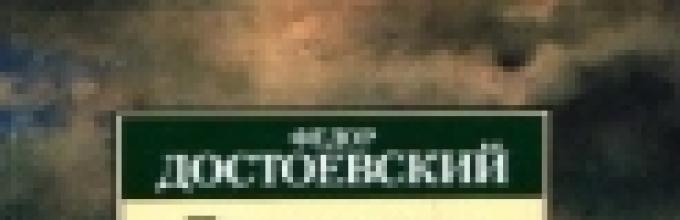Жестокая помещица Марья Александровна Москалёва сумела завоевать успех в высшем обществе город Мордасова. Однако скучная провинциальная жизнь её не устраивает. Она мечтает попасть в столицу. Чтобы добиться цели, Марья Александровна собирается удачно выдать замуж свою дочь Зину. Девушка влюблена в небогатого юношу. Однако мать против их брака. Однажды во время ссоры возлюбленный Зины решил отомстить и передал одно из её любовных писем сплетника Мордасова. Благодаря матери репутацию Зины удалось спасти.
Отчаявшись найти для своей дочери достойную партию, Марья Александровна намерена выдать её замуж за Павла Мозглякова. Несмотря на то, что молодой человек недостаточно богат, по мнению Марьи Александровны, у него блестящее будущее и возможность получить место в Петербурге.
Зина недовольна выбором матери, однако не решается ответить отказом. Чтобы порадовать будущих родственников, Мозгляков привозить в их дом богатого князя К. Марья Александровна немедленно принимает решение выдать дочь за престарелого князя. Зина приходит в отчаяние, узнав об этом. Дипломатичная мать уговаривает дочь на неравный брак. Согласно плану Москалёвой-старшей, Зина очень скоро станет богатой вдовой и сможет выйти замуж за своего возлюбленного.
В дальнейшем события развиваются очень бурно и стремительно. За князем К. охотится не только Москалёва, но многие другие дамы из высшего общества Мордасова. Марье Александровне так и не удалось реализовать свои планы. Зина не смогла стать женой ни князя К., ни Мозглякова. Девушка окончательно испортила себе репутацию, потеряв последние шансы на выгодное замужество. Тем не менее, Зина отказалась спасать положение, отклонив повторное предложение влюблённого Мозглякова. Через год после описываемых событий Москалёва-младшая вышла замуж за престарелого генерала.
Характеристика персонажей
Марья Москалёва
Тщеславие и жажда власти заставляют Марью Александровну делать самые низкие поступки: грубо льстить, сплетничать, плести интриги. Москалёва во всём привыкла быть первой. Даже в собственной семье она стремится занять место главы, вытеснив мужа Афанасия Матвеевича на задний план.
Дочь Зина для Марьи Александровны – в первую очередь, средство для достижения её собственных целей. Супруг не смог дать главной героине ту жизнь, о которой она мечтала, следовательно, попасть в высший свет столицы можно только при помощи выгодного замужества дочери.
Зинаида Москалёва
В начале повести дочь главной героини являет собой полную противоположность своей матери. Зина бескорыстна и не пытается искать выгоды от своего брака. Высшему свету столицы и богатству она предпочитает искренние чувства.
Однако со временем мнение Зины начинает меняться. Причиной этому становится бесчестный поступок её возлюблённого, который скомпрометировал девушку, придав огласке одно из её писем. Зина начинает сомневаться в правильности своего выбора, несмотря на то, что по-прежнему любит своего Васю. Проходит совсем немного времени, и девушка соглашается на брак с неприятным ей князем ради титула и денег, предав не только любимого, но и человека, с которым была связана обещанием.
Зина продолжает оставаться доброй и бескорыстной, но она всё больше становится похожа на Марью Александровну, проявляя высокомерие, злословя и участвуя в гнусных интригах своей матери. Девушка постепенно адаптируется к «обычаям» и «традициям» высшего общества, где приходится вести себя нечестно ради собственного выживания. В конце концов, в Зине побеждает её генетическая предрасположенность. Она выходит замуж за пожилого генерала, который ей полностью безразличен, но брак с которым сделает её богатой и откроет дорогу в высшее общество.
Князь К.
Пожилой князь успел изрядно «износиться». По мнению автора, этот человек «составлен из кусочков». У «дядюшки» вставные зубы, протез вместо одной ноги, стеклянный глаз. Все эти детали свидетельствуют о том, что князь прожил бурную и далеко не безгрешную жизнь. Престарелый аристократ продолжает оставаться ценителем женского пола, с жадностью разглядывая в лорнет наиболее «заманчивых» дам и делая им комплементы.
Самое известное произведение Достоевского затрагивает проблемы морали, совести, душевной борьбы и обретения прощения через раскаяние.
Философская повесть раскрывает суть внутренней природы человека, которая скрывается под внешней оболочкой, и проявляется лишь изредка.
Автор считает своего героя недалёким, низменным созданием, которое к старости окончательно «выжило из ума». Князь часто не узнаёт людей, путает обстоятельства, говорит глупости. В повести старый аристократ воплощает собой все пороки элиты и её бесполезность для полноценного развития общества.
Главная идея
К огромному сожалению автора, порок в повседневной жизни всегда торжествует над добродетельностью. Эту мысль и можно считать главной идеей. Даже положительные герои, рано или поздно, переходят на сторону порока. Зина Москалёва пыталась быть честной по отношению к себе и к своим чувствам. Для молодой девушки замужество ради выгоды с нелюбимым – самая отвратительная сделка с совестью. Однако Зина вынуждена несколько раз пойти против своих принципов. Молодая Москалёва понимает, что и тот, кого она считала своим идеалом, оказался далеко не так идеален. Следовательно, нет никакой необходимости оставаться преданной человеку, который этого не стоит.
 Название повести долго остаётся непонятным для читателя. Впоследствии оказывается, что «дядюшкой» в произведении именуют старого князя, приходящегося дальним родственником жениху Зины. Сном названо предложение руки и сердца, которое сделал князь К. молодой Москалёвой. Мозгляков узнал о том, что невеста предала его, согласившись стать женой его родственника. Обманутому жениху ничего не оставалось, как отомстить девушке. Мозгляков объявил своему дядюшке, что никакого предложения тот не делал. Всё это не более чем сон больного старика. Князь К. охотно согласился, поскольку уже давно не отличал сон от яви. Возможно, что старый аристократ поддержал идею родственника ещё и потому, что сам сожалел о содеянном. Предложение руки и сердца было порывом, вызванным избытком чувств. На самом деле князь уже не нуждался в женском обществе.
Название повести долго остаётся непонятным для читателя. Впоследствии оказывается, что «дядюшкой» в произведении именуют старого князя, приходящегося дальним родственником жениху Зины. Сном названо предложение руки и сердца, которое сделал князь К. молодой Москалёвой. Мозгляков узнал о том, что невеста предала его, согласившись стать женой его родственника. Обманутому жениху ничего не оставалось, как отомстить девушке. Мозгляков объявил своему дядюшке, что никакого предложения тот не делал. Всё это не более чем сон больного старика. Князь К. охотно согласился, поскольку уже давно не отличал сон от яви. Возможно, что старый аристократ поддержал идею родственника ещё и потому, что сам сожалел о содеянном. Предложение руки и сердца было порывом, вызванным избытком чувств. На самом деле князь уже не нуждался в женском обществе.
Книги совершенно непохожи - по содержанию, по художественному оформлению, и, можно сказать, по своему предназначению.
Даже названия разные: у «Махаона» традиционные «Сказки», у «Октопуса» - «Сказки слово в слово».
О содержании:
В «махаоновском» издании традиционные двенадцать плюс ещё одна - третья сказка из «тегумайского» мини-цикла.
У «Октопуса» эти тринадцать плюс четырнадцатая сказка: «О том, как Дикобраз получил свою причёску.
Переводы совпадают только частично: в обеих книгах есть переводы Чуковского и Маршака,
да и те не полностью совпадают: семь/семь у «Октопуса» и восемь/шесть у «Махаона».
Остальные сказки у «Махаона» в переводе (в основном) Раисы Померанцевой и Яна Шапиро (1); стихи Николая Голя (2), Ксении Атаровой (1) или вообще без «концовочных» стихов (4).
У «Октопуса» остальные сказки в переводах Ренаты Мухи и Вадима Левина, Евгении Канищевой (получила за «Леопарда» Главную премию Норы Галь), Яна Шапиро; стихи (все) в переводах Сергея Шоргина.
Книгу «Октопуса» можно разделить на три отдельных блока: во-первых, собственно сказки; во-вторых, рисунки самого Киплинга с авторскими подписями-разъяснениями к ним (тридцать страниц); и третьим блоком идёт послесловие-комментарий по сборнику в целом и по каждой сказке в отдельности (история, география, непонятные места и архаизмы, «тайнопись» Киплинга и т. д.) - это ещё тридцать страниц.
В «махаоновской» книге - две страницы предисловия в начале и страница «От художника» в конце. Зато - и в этом её главная «изюминка» - в ней есть цветные иллюстрации Роберта Ингпена. Очень много: на 192 страницы всего десять разворотов совсем без иллюстраций. Посмотреть их можно, например, .
Ингпен взял киплинговские рисунки за основу для многих своих иллюстраций, и получилось очень интересно.
Единственное, что меня смутило, так это то, что Ингпен в своем послании «От художника» слегка потоптал Киплинга - по-свойски, как профессионал любителя. «Первоначально Киплинг сам рисовал иллюстрации к своим причудливым историям, хотя и понимал ограниченность своих художественных способностей, о чём прямо говорил в подписях к рисункам.» Известно, что к литературной критике Киплинг относился очень хладнокровно, можно даже сказать - наплевательски, а вот к критике своих художнических способностей (как раз рисунков к «Сказкам») относился очень нервно. Опять же, если пользуешься чем-то чужим, стоит быть повежливее с владельцем. Кстати, чуть не забыл:
Несколько фотографий иллюстраций Ингпена, взятых у shaltay0boltay
с любезного разрешения хозяйки:
Кит у "порога Экватора":
1922 — Киплинг Р. Слоненок / Пер. К.Чуковского. - Пг.: Эпоха (переизд. - Л.: ГИЗ, 1926, 1929, 1930)
Эта книжка была издана впервые в 1922 году.
И хотя с тех пор иллюстрировать сказки Киплинга брались многие художники, порой очень талантливые, все же старые-старые рисунки Владимира Васильевича Лебедева к «Слоненку» ничуть не потускнели и не устарели рядом с новыми изданиями. Озорные, бойкие, радостные — они и сегодня способны озадачить критика (не слишком ли это сложно для ребенка?) и многому научить художника. В свое же время эта тоненькая тетрадочка была настоящим событием — с нее начиналось целое направле-ние в искусстве детской книги.
Давайте же снова перелистаем лебедевского «Слоненка», вглядимся в забавные, подвижные силуэты его героев. Попробу-ем увидеть эту книжку, как впервые — как будто мы ее не знаем, не видели, не привыкли к ней.
Довольно большого формата тетрадочка в бумажной обложке. Так давно уже издавали детские книжки. Знаменитые сказки Билибина имели ту же конструкцию. Но насколько иначе эта тетрадка выглядит! Обложка без привычной рамки, объединя-ющей текст и рисунки. Разбросанные по цветному фону черно-белые, кое-где с грубой фактурой, резко схематизированные силуэты — пальмы, ветки, кактусы, пирамиды. Так же точно схематизированные, как из палочек выложенные буквы заглавия. Не сразу даже привычный, не детский, взгляд сложит из черных, белых, серых сегментов пальму, не сразу прочтет слившуюся в черный овал букву «О»... Но читать эту обложку с ее ритмичным хороводом букв, вещей и животных пусть нелегко, но интерес-но, занятно. Кружатся, пляшут вокруг занятного круглого сло-ненка и вещи и буквы, тянут и нас в свое живое, веселое дви-жение.
Каждый зверь — со своим характером, со своей пластикой, со своим движением, и все это: движение, пластика, характер — сведено к четкой схеме, заострено и подчеркнуто. Части тела обобщены, упрощены и соединены так, как они соединяются в игрушке — на шарнирах. Эта очевидная условность делает зверей игрушечными, то есть более близкими привычному детскому миру, но от этого ничуть не меньше живыми. У игрушки — свои способы воспроизведения жизни, свои зако-ны движения. Лебедев отбросил все лишнее, не несущее экспрес-сии, чуть-чуть иронически преувеличенной. Так подчеркнуты ладошки Павиана, угловатые ноги Страуса, зубчатая спина Крокодила. Говоря по-детски — звери смешные, и потому не страшные — даже Крокодил. Все они будто свинчены из простых частей, и подвижные шарниры суставов резко подчеркнуты. Кажется, что им можно придавать любые позы, а не только те, которые нарисовал художник. Все они посажены прямо на белую бумагу — не в какую-то нарисованную Африку, а сюда, на книжку. Вот бежит по ней Слоненок со своим только что полученным хоботом, так быстро, что сейчас убежит, кажется, со своей белой страницы, выбежит на стол, свалится на пол. Тут мы видим, что он и в самом деле игрушечный, что он мог бы жить и вне книжки, что с ним можно играть, забирая его из сказки к себе.
Это было новое качество, совсем не свойственное прежним детским иллюстрациям — даже самым лучшим из них. Но в те годы, когда Лебедев рисовал «Слоненка», такая активизация детской фантазии, стремление вывести материал книжки «нару-жу»— в игру — становилась для некоторых художников вполне сознательной задачей. Теоретически эту задачу сформулировал несколько лет спустя В. А. Фаворский: «Освобождение предмета от пространства в скульптуре, хотя бы в игрушках, позволяет ребенку свободнее играть в нее, ставить ее в различные положения и навязывать ей различные действия. Думаю, что и с предметной иллюстрацией возможно отчасти то же самое, при условии особой формы книги (помню, как дети играли в зверинец с книжкой-гармоникой)» (Фаворский В. А. Кое-что о формальной стороне детской книги (1926). Цит. по: Кни-га о Владимире Фаворском. - М., 1967. - С. 268.). А экспериментальная детская книжка Эль Лисицкого «Супрематический сказ про два квадрата» (Берлин: Скифы, 1922), изданная в одно время со «Слоненком», открывалась призывом к маленьким читателям: «Не читайте, берите бумажки, столбики, деревяшки, складывайте, красьте, стройте». Лебедеву такой призыв, пожалуй, и не был нужен, его звери сами просятся со страницы в руки. Получается это вовсе на само собой. Так работает сложная система художественных приемов, виртуозно разработанная Лебедевым. Художник хочет, чтобы его звери все время оставались с нами, не уходили в глубину страницы, как в пустое пространство. Как это сделать? Распластать их по плоскости, дать силуэтом? Силуэтная манера широко применя-лась художниками «Мира искусства». Аккуратненький, с мелкими деталями контур рисунка заливается черной тушью. Он помеща-ется чаще всего в совершенно реальное пространство, создава-емое травинками, ветками деревьев, летящими птицами, никак не укладывающимися в плоскость основного рисунка. Так рисовала еще в конце XIX века Елизавета Бем, и почти так же — Г. Нарбут. Рисунки Лебедева, тоже в основе силуэтные, строятся совершен-но иначе. Не контур с черной заливкой, а цельное, обобщенное по форме пятно, где контур —это естественная граница массы, а не цепь выступающих из нее наружу деталей. Так сохраняется в силуэте живая пластика формы, обобщенной, но не геометризированной. Округлая, упругая форма цветового пятна делает его массивным, выпуклым. В. А. Фаворский писал позднее, что «при помощи формы пятен мы можем достигнуть тяжелого черного, лежащего выпуклым пятном на белом, черного, уплощенного, характеризующего плоскость, черного, дающего глубину, и черно-го воздушного» (Фаворский В. А. О графике как об основе книжного искусства // Искусство книги. - 1961. - Вып. 2. - С. 56.).
Кое-где Лебедев подчеркивает объем грубой шероховатой фактурой, высветляющей край пятна, круглящей форму и в то же время придающей ее поверхности особую, почти осязательную конкретность. Шершавую кожу бегемота, жесткий волос павиана, атласную гладкость пятнистой шкуры жирафа, рыхлый пух страусового хвоста мы чувствуем как бы на ощупь, так что порой хочется совьем по-детски проверить себя, потрогав гладкий лист. Один и тот же черный цвет оказывается здесь бесконечно разнообразным, конкретность впечатления лишь подчеркивается условностью и экономностью художественных средств.
(из книги: Герчук Ю.Я. Художественные миры книги. - М., 1989. - С. .)
Гораздо более значительной оказалась другая работа - рисунки к сказке Р. Киплинга, Сло-ненок". Критика уже тогда охарактеризовала эту работу как свидетельство глубокого пе-релома не только в творчестве самого художника, но и во всем современном искусстве книги. Речь шла о том, что смещение графического творческого сознания в новый культурный слой в главных чертах определилось, и было отмечено, что на смену декоративно-графи-ческой системе „Мира искусства" пришли заново продуманные принципы искусства книги, базирующиеся на достижениях русской и мировой художественной культуры XX века.
Критика справедливо указывала, что значение этой работы Лебедева не ограничено преде-лами национальной книжной графики.
И в самом деле, в рисунках к „Слоненку" Лебедеву удалось найти новый художественный язык, новое эмоциональное содержание и новую, вполне последовательную систему твор-ческих приемов, отныне определившую облик и характер детской иллюстрированной книги. Полемически направленная против ретроспективных тенденций „Мира искусства", система Лебедева обратила графику от стилизации к непосредственному и конкретному наблю-дению действительности, от бесплотной романтической мечты к выражению живого чувства и, наконец, от декоративного украшательства к четкой конструкции и продуманной архи-тектонике книги.
Художественная выразительность рисунков к „Слоненку" основывается на остром кон-трасте между обобщением и неожиданной детализацией формы. Язык графики Лебедева подчеркнуто лаконичен, он передает лишь основные связи явлений. Форма развертывается на плоскости, нигде не нарушаемой мотивами иллюзорной глубины. Нет ни предметного фона, ни пейзажа, ни орнамента - белый книжный лист становится той средой, в которой живут и действуют персонажи сказки. Отказываясь от контурной линии, художник по-строил рисунок на сочетании и противопоставлении серых и черных плоскостей, передаю-щих пластику изображаемой натуры. В изображении слоненка, павиана, жирафа, беге-мота и других зверей Лебедев исходил из натурных зарисовок, но обобщил свои наблюде-ния, отбирая лишь наиболее характерные и типические особенности анатомии и пластики тела животного. Таким образом, рисунок нигде не утрачивает меткой и острой выразитель-ности в передаче облика и повадок зверя. Лаконизм графического языка не мешает ему быть заразительно веселым и увлекательно интересным.
Приемы, разработанные в рисунках к сказке Киплинга - а также в других, более поздних иллюстрационных циклах, о которых пойдет речь ниже, - восходят к ранним работам Лебе-дева. Добиваясь выразительного и лаконичного обобщения формы, художник опирался на опыт своего творчества в сфере политического плаката; книжная графика обогатилась, та-ким образом, новой традицией, идущей от „Окон РОСТА" и генетически связанной с рус-ским народным творчеством, с искусством вывески и лубка. Развертывая композицию на плоскости, сводя иногда предметное изображение к простым, почти геометризованным фор-мам, художник смог использовать результаты своих недавних экспериментов, не отрекаясь при этом ни от изобразительности, ни от наблюдения натуры.
Кто не задавал по сто разных "почему" в день? Иногда вопросов так много, что даже взрослые не могут на них ответить. Для этого существуют разные науки. Но, как известно, любая наука начинается со сказки. Прежде чем появился самолет, был ковер-самолет, а вместо телевизора - блюдечко с наливным яблочком. Ты, наверное, знаешь сказки английского писателя Киплинга, где он объясняет, как люди научились писать и отчего у верблюда горб. Я тоже попробовала найти сказочные ответы на некоторые "почему", и вот что у меня получилось. книга не полностью
Сказки несовершенного времени (без иллюстраций) Сергей Седов
Неистощимый сказочник Сергей Седов и неутомимый художник Леонид Тишков, на радость любителям "Сказок?" совместными усилиями создали новую книгу - "Сказки несовершенного времени".Продолжая славную традицию былин про Лешу, про любовь, про лягушку Пипу, а также про дураков и королей, Сергей Седов популярно разъясняет нам, своим читателям, в какое занимательное время нам доводится жить, а также чем и кем это время примечательно. Художник же Леонид Тишков обрисовывает черты этого самого времени каскадом уникальных иллюстраций.
«Вперед, Котенок!» и другие... Сказки для театра… Андрей Зинчук
И у книг есть судьбы. Эта в конце восьмидесятых - начале девяностых годов была подготовлена к печати в издательстве «Борей» (сейчас его уже нет) и проиллюстрирована двумя замечательными художниками - в то время студентами Академии художеств - Олей Шклярук и Альбертом Низамутдиновым. Но ее «выпуск в свет» (профессиональный термин полиграфистов, надпись на титуле книги с подписью лица, ответственного за публикацию) в то время так и не состоялся. А потом на это попросту не было денег. Как, впрочем, нет и сейчас. Поэтому готовый макет сказок для…
Сказки и легенды Редьярд Киплинг
С иллюстрациями автора. В «Сказках и легендах» перед читателем предстаёт пародоксальный мир киплинговых фантазий, будоражащих воображение. Содержание: Почему кит ест только мелких рыбок Как на спине верблюда появился горб Как на коже носорога появились складки Как леопард стал пятнистым Слон-дитя Просьба старого кенгуру Как появились броненосцы Как было написано первое письмо Как была составлена первая азбука Морской краб, который играл с морем Кот, который гулял где хотел Мотылёк, который топнул ногой
Сказки о животных (сборник) Редьярд Киплинг
В книге собраны лучшие сказки знаменитого английского писателя Редьярда Киплинга. В этих увлекательных историях ребята найдут ответы на сотни разных «как» и «почему». Смешные, добрые, познавательные, временами поучительные сказки помнит и любит уже не одно поколение читателей. Это книжка, которую хочется перечитывать снова и снова. Содержание: Почему кит ест только мелких рыбок Как на спине верблюда появился горб Как на коже носорога появились складки Слон-дитя Как появились броненосцы Как было написано первое письмо Кот,…
Снежная королева (с иллюстрациями) Ганс Христиан Андерсен
Эта сказка с таким холодным названием вот уже почти 200 лет согревает миллионы детских сердец во всём мире. Её автор - гениальный датский сказочник Ханс Кристиан Андерсен (1805-1875). Проиллюстирировал книгу известный украинский мастер книжной графики Владислав ЕРКО - победитель ряда престижных художественных и книжных выставок, обладатель титула «Человек книги» как лучший художник 2002 года по версии московского “Книжного обозрения”. Всеобщее признание получили его иллюстрации к книга Пауло Коэльо и андерсеновской “Снежной Королеве”, которая…
Сказки дядюшки Римуса (Иллюстр. М.Волковой) Джоэль Харрис
ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА Это сборник сказок известного американского писателя Джоэля Харриса. Всю свою жизнь он собирал негритянские сказки и песни, обрабатывал, сочинял что-то свое, и результат оказался блестящим. Истории, рассказанные старым негром дядюшкой Римусом, полюбились всем американцам, а Братец Кролик, главный персонаж всех историй, стал самым любимым героем. Он совсем не похож на своих ближайших родственников - добрых и безобидных зайчиков из русских сказок. Плут, хитрец, проказник - вот такой он! На милого зверюшку этот кролик совсем не…
Маленькое привидение (с иллюстрациями) Отфрид Пройслер
Ах, какое маленькое Привидение! А ты знаешь, почему дети, которые читали сказки немецкого писателя Отфрида Пройслера, никогда ничего не боятся? Да это потому, что страшные-престрашные бабки-ежки, водяные и привидения живут лишь в книжках со сказками! А читать их весело и интересно. «Маленькое Привидение» – одна из лучших сказок для малышей известного немецкого писателя Отфрида Пройслера. Для дошкольного и младшего школьного возраста. Иллюстрации Л.А. Токмакова
Сквозь волшебное кольцо. Британские легенды… Undefined Undefined
Настоящий сборник знакомит читателя с сокровищами фольклора Британских островов - ирландскими, валлийскими, шотландскими и английскими легендами и сказками. Перевод и составление Н.В.Шерешевской. Иллюстрации Лии Орловой, Алены Аникст, Надежды Бронзовой.
Just So Stories For Little Children by R. Kipling,
illustrated by the author,
pocket edition,
издательство Macmillian and Co., London, 1928.
Впервые эта книга была издана в 1902 году. До 1928 года, когда появился тот экземпляр, который я сканировала, книга пережила 15 переизданий.
Иллюстрации принадлежат самому Рельярду Киплингу. Значительно больше известны иллюстрации его отца - Джона Локвуда Киплинга. Будучи иллюстратором, скульптором и директором Школы Изящных искусств в Бомбее, он проиллюстрировал множество книг своего сына. Но и самому Редьярду Киплингу рисование было не чуждо.
На обложке золотое тиснение — свастика и слон, держащий в хоботе цветок лотоса. Рожденный в Индии, пропитанный духом буддизма, Киплинг выбрал это изображение в качестве эмблемы своего творчества. Свастика помещалась на все ранние издания его книг. Киплинг использовал ее в своей личной подписи. Позднее это послужило поводом для того, чтобы говорить о нацистских истоках появления свастики у Киплинга. Но это также нелепо, как Пушкин, радеющий за права пролетариата. Есть также документальное подтверждение того, что узнав об использовании свастики в качестве символа нацизма, Киплинг потребовал зачистить ее изображение с уже отпечатанной партии книжных обложек. И после этого она никогда больше не появлялась на его книгах.
На левой стороне титульного разворота, как раз над свастикой, анаграмма Киплинга (RK). Если внимательно смотреть на иллюстрации ниже, то можно увидеть, что Киплинг использует несколько совершенно разных анаграмм для маркировки своих картинок. Такая забавная деталь, выдающая непрофессионального художника.
Появление цвета в иллюстрациях — заслуга неизвестного маленького читателя.
Начиная с этой, картинки можно открывать в новом окне в большом размере. Я, в этом случае, буду ставить знак «+» над картинкой. Смотреть их в большом размере имеет смысл как минимум потому, что в витьеватой графике Киплинга, порой, очень трудно разобраться. Иногда просто невозможно понять, что нарисовано. Стою на распутье: порассуждать ли о непрофессионализме его как художника (что вовсе не умаляет достоинства картинок!) или же о том, как на Киплинга повлияла визуальная культура Индии - ну, согласитесь, нельзя не заметить сходства его графики с классическими буддистскими изображениями. А, помолчу, пожалуй. Мне иногда ж полезно.
Самая известная иллюстрация Киплинга, она часто появлялась на обложках. Для рассказа о том, почему у слона длинных хобот:
Практически Сальвадор Дали:
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Самая европейская, на мой взгляд, иллюстрация. Для «Кошки, которая гуляла сама по себе».
+
+
+