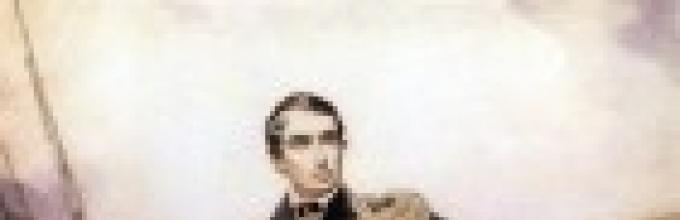История создания «Севастопольских рассказов» Толстого
«Севастопольские рассказы» создавались Толстым по свежим следам событий. В Севастополе Толстой оказался впервые в самом конце 1854 г., через несколько месяцев после начала осады города англо-французскими войсками. В январе 1852 г. Толстой определился на военную службу, в артиллерию. В течение двух лет он служил на Кавказе, и эти годы – годы, связанные у него с сильными новыми впечатлениями и началом серьезной литературной работы,- оставили в нем лучшие воспоминания. В 1854 г., вскоре после того, как началась русско-турецкая война, Толстой подает прошение о переводе его в Дунайскую армию. Некоторое время он служит при штабе армии, в Кишиневе, совершает поездки по Молдавии, Валахии и Бессарабии, наблюдает осаду крепости Силистрия. В ноябре и декабре 1854 г. он несколько раз выезжает в осажденный Севастополь. Он выражает желание перевестись в крымскую армию, быть ближе к самым важным и решающим событиям, непосредственно принять в них участие.
Очень заметна в нем сильная потребность быть не наблюдателем, а прямым участником дела – эта потребность у него очень человеческая, патриотическая и, быть может, не менее того – писательская.
В марте 1855 г. часть, в которой служит Толстой, переводится в Севастополь, и Толстой оказывается на четвертом бастионе, на самом опасном месте в Севастополе. Он записывает в дневнике:
2 апреля – «Я живу в Севастополе. Потерь у нас уже до пяти тысяч, но держимся мы не только хорошо, но так, что защита эта должна очевидно доказать неприятелю (невозможность) когда бы то ни было взять Севастополь. Написал вечером две страницы „Севастополя”»;
3 - 7 апреля – «Третьего дня ночевал на 4-м бастионе. Изредка стреляет какой-то пароход по городу. Вчера ядро упало около мальчика и девочки, которые по улице играли в лошадки: они обнялись и упали вместе. Девочка – дочь матроски. Каждый день ходит на квартиру под ядра и бомбы…»;
12 апреля – «4-й бастион. Писал „Севастополь днем и ночью” и, кажется, недурно и надеюсь кончить его завтра. Какой славный дух у матросов!..»;
13 апреля - «Тот же 4-й бастион, который мне начинает очень нравиться, я пишу довольно много. Нынче окончил „Севастополь днем и ночью” и немного написал „Юности”. Постоянная прелесть опасности, наблюдения над солдатами, с которыми живу, моряками и самым образом войны так приятны, что мне не хочется уходить отсюда, тем более что хотелось бы быть при штурме, ежели он будет…».
Эти дневниковые записи Толстого – свидетельства весьма существенные и важные для понимания жизненной и художественной природы «Севастопольских рассказов». Да и не только их одних. То, о чем пишет Толстой в своих военных рассказах, он пишет не понаслышке, не со стороны, а как человек, сам все переживший и по собственному опыту все знающий. Этого не может не заметить, не почувствовать читатель его произведений. Отсюда то особенное доверие, которое мы, читатели, испытываем к Толстому.
Разумеется, как всякий художник, Толстой был наделен живым творческим воображением, творческой фантазией. Но его воображение и его фантазия могли работать лишь в строгих пределах реального. Для него самого реального. Он должен был все сам увидеть и испытать, прежде чем особенными художественными путями предоставить испытать это читателю. В этом не только своеобразие Толстого-писателя, за этим – его писательское убеждение, его художественная вера.
«Севастопольские рассказы» Толстого состоят из трех очерков : «Севастополь в декабре» (первоначальное название очерка «Севастополь днем и ночью»), «Севастополь в мае» и «Севастополь в августе». В литературном смысле очерки эти тесно связаны с неосуществленным замыслом Толстого издавать журнал для солдат. «В пашем артиллерийском штабе, - писал Толстой брату Сергею 20 ноября 1854 г.,- состоящем, как я, кажется, писал вам, из людей очень хороших и порядочных, родилась мысль издавать военный журнал… В журнале будут помещаться описания сражений, не такие сухие и лживые, как в других журналах…».
Издание журнала не было одобрено царем. От журнала, однако, осталась у Толстого дорогая ему мысль противопоставить «сухим и лживым» описаниям войны живую правду о войне. Эта мысль и осуществлена была им в очерках, посвященных Севастополю.
Эта мысль открыто заявлена уже в первом очерке. В соответствии со своим внутренним заданием в очерке «Севастополь в декабре» Толстой показывает Севастополь и его мужественных защитников не в парадном, не в традиционно литературном их одеянии, а в их истинном виде. Он показывает войну в ее повседневности, в ее особенном быту. Нельзя сказать, что до Толстого никто так не показывал войну.
Цель внешней политики царя Николая I - вытеснение Турции из Европы. Император провозгласил Россию покровительницей православных народов (болгар, сербов), находящихся под властью султана. 21 июня 1853 года русские войска были введены в Дунайские княжества. 16 октября 1853 года Турция объявила России войну. Русская дипломатия не смогла предвидеть и предотвратить то, что на стороне Турции выступят Англия, Франция и Сардиния. Видеть Россию сильной в Европе не хотели никогда. В сентябре 1854 года войска коалиции высадились в Крыму. В октябре началась бомбардировка Севастополя. Героическая оборона длилась одиннадцать месяцев. Подписанный в марте 1856 года в Париже мирный договор воспринимался в России как поражение. Крымская война оказалась личной трагедией Николая I: 18 февраля 1855 года он умер.
В 1851 году Л. Н. Толстой отправляется на Кавказ вместе с братом Николаем Николаевичем, который служил офицером-артиллеристом в действующей армии.
Когда в 1853 году началась война России с объединенными военными силами Англии, Франции и Турции, Толстой подал прошение о переводе его в действующую армию, как он сам объяснял впоследствии, «из патриотизма». Его перевели в Дунайскую армию, а позднее в Крым, в Севастополь. «Храбрый артиллерийский офицер, способный сохранять спокойствие при любых обстоятельствах, даже грозящих мучительной смертью, не суетливый, но упорный» - таким был Л. Толстой, по свидетельству очевидцев, на 4-м бастионе, который считался самым опасным местом, обстреливаемым иногда до 10 дней подряд. В Севастополь Толстой прибыл в ноябре 1854г. и оставался здесь вплоть до конца осады. Он хотел издавать «Военный листок», чтобы содействовать улучшению дел в армии и противостоять лжи об этой войне. Чтобы иметь на издание журнала деньги, в 1854 году писатель продал на своз родительский дом в Ясной Поляне. Николай I издание журнала не разрешил. В мае 1855г. Толстой был назначен командиром горного дивизиона и принимал участие в битве при Черной речке. Он не бросил литературных занятий. Здесь и были написаны «Севастопольские рассказы».
В сентябре 1854 года армия союзников численностью более 60 тысяч человек высадилась в Крыму и начала наступление на Севастополь – главную русскую крепость на Черном море. Город был неуязвим с моря, но практически беззащитен с суши. После неудачи русских войск в сражении на реке Альме главнокомандующий князь А. С. Менщиков приказал армии отступить в глубь Крыма. Севастополь оказался уже тогда обреченным.
Адмиралы В. А. Корнилов, П. С. Нахимов, В. И. Истомин взяли на себя командование Севастополем. С 22 тыс. моряков и 2 тыс. орудий, снятых с судов, при поддержке населения они организовали оборону. Под ураганным огнем выдерживали осаду 120-тысячной армии неприятеля. Гарнизон и население города были мобилизованы на строительство укреплений, схему которых разработали военные офицеры под руководством Э. И. Тотлебена. Защитники города затопили у входа в бухту несколько судов и преградили доступ в нее вражескому флоту.
7 ноября 1854 года Толстой прибыл в Севастополь. Под сильным впечатлением увиденного он пишет письмо брату Сергею: «Дух в войсках выше всякого описания. Во времена древней Греции не столько геройства. Корнилов, объезжая войска, вместо: «Здорово, ребята!» - говорил: «Нужно умирать, ребята, умрете?» - и войска кричали: «Умрем, ваше превосходительство! Ура!..» и уже 22 тысячи исполнили это обещание. Рота моряков чуть не взбунтовалась за то, что их хотели сменить с батареи, на которой они простояли 30 дней под бомбами. Солдаты вырывают трубки из бомб. Женщины носят воду на бастионы для солдат…мне не удалось ни одного раза быть в деле, но я благодарю бога за то, что я видел этих людей и живу в это славное время».
Таким образом, Л. Н. Толстой был непосредственным участником обороны, видел, как сражаются русские солдаты, как они умирают. О них Л. Н. Толстой пишет в очерке «Как умирают русские солдаты». В одном из рассказов мы читаем: «Надолго оставит в России великие следы эта эпопея Севастополя, которой героем был народ русский». И еще: «Герой, которого я люблю всеми силами души, которого старался воспроизвести во всей красоте его и который всегда был, есть и будет прекрасен – правда». Эти люди стали героями рассказов: «Севастополь в декабре месяце», 1854 год; «Севастополь в мае», 1855 год; «Севастополь в августе», 1855 год.
1. Рассказ: «Севастополь в декабре месяце»
В рассказе изображен момент некоторого ослабления и замедления военных действий между кровавой битвой под Инкерманом 5 ноября 1854 года и битвой под Евпаторией 17 февраля 1855 года. Сражение у Балаклавы 13 октября 1854 года сложилось в пользу русских. Сначала были сброшены с нескольких редутов турки, а затем под перекрестный огонь русской артиллерии попал элитный полк английской легкой кавалерии и был разгромлен. Но русское командование не использовало успех под Балаклавой. Через несколько дней произошло новое сражение, под Инкерманом. Оно началось удачными атаками русских войск против англичан. Одно время судьба сражения висела на волоске. Но на помощь англичанам вовремя пришли французы Сражение под Инкерманом закончилось поражением русских войск. Между тем успех в этом сражении заставил бы союзников снять осаду с Севастополя. Война приобрела затяжной характер.
В рассказе «Севастополь в декабре» Толстой передал свои первые впечатления. Рассказ впервые показал России осажденный город в его величии. Автор изображал войну без прикрас, без громких фраз, сопровождавших официальные известия о Севастополе на страницах журналов и газет. Он стремится дать полную панораму войны, осознавая, что «надолго оставит в России великие следы эта эпопея Севастополя, которой героем был народ русский...».
Работа с классом по содержанию рассказа «Севастополь в декабре месяце»
Рассказ является своеобразным «путеводителем» по осажденному городу. Это особенно подчеркивается формой личного местоимения «вы» в определении лица, от которого ведется рассказ. Это и повествователь, и читатель: «Вы подходите к пристани…», «Вы отчалили от берега...», «...вы видите будничных людей, спокойно занятых будничным делом». Повествование ведется так, что читатель как бы является очевидцем, участником событий, он как будто ощущает то же, что и защитники города.
Рассказывают, что императрица Александра Федоровна плакала, читая первый севастопольский очерк Толстого, а государь Николай I приказал «следить за жизнью молодого писателя и даже «перевести его с четвертой батареи в более безопасное место».
Писатель заметил множество деталей военного быта, многие из которых пришлись не по вкусу тогдашней петербургской цензуре. У боевого пехотного офицера на сапогах «стоптанные в разные стороны каблуки», старая шинель странного лиловатого цвета, в блиндаже грязная постель с ситцевым одеялом, а из узелка с «провизией», когда он отправляется на бастион, торчит «конец мыльного сыра и горлышко портерной бутылки с водкой». У армейского офицера не может быть чистых перчаток и новенькой шинели - в отличие от интендантских казнокрадов и штабных щеголей.
Будничная, внешне беспорядочная суета города, ставшего военным лагерем, переполненный лазарет, удары ядер, взрывы гранат, мучения раненых, кровь, грязь, смерть – вот та обстановка, в которой защитники Севастополя просто и честно, без лишних слов выполняли свой тяжелый труд. «Из-за креста, из-за названия, из угрозы не могут принять люди эти ужасные условия: должна быть другая, высокая побудительная причина,- говорил Толстой.- И эта причина есть чувство, редко проявляющееся, стыдливое в русском, но лежащее в глубине души каждого - любовь к родине».
Академик Е. Терле называл «Севастопольские рассказы» правдивым историческим документом, современники воспринимали их как «корреспонденции с театра военных действий». Печатались они в журнале «Современник».
Очерк - жанр литературы, который предполагает документальную достоверность.
Но все-таки свое произведение он назвал рассказами. Почему? Потому что он показал, что такое война в ее настоящем выражении, описал не только поступки героев, но показал отличие истинного героизма от ложного.
Вывод: Автор восхищается мужеством русских людей, защищающих свою Родину. Он убежден в «…невозможности поколебать, где бы то ни было силу русского народа». Но писатель не может удержаться от осуждения войны как таковой: вы «…увидите войну не в правильном, красивом и блестящем строе, с музыкой и барабанным боем,… а увидите войну в настоящем ее выражении – в крови, в страданиях, в смерти»
Но чем дальше затягивалась осада, тем очевиднее ощущал Толстой внутренний разлад и неподготовленность государства к войне. «…Больше, чем прежде убедился, - записывает он в своем дневнике, - что Россия или должна пасть или совершенно преобразоваться. Все идет навыворот... Грустное положение - и войска, и государства». Как истинный патриот, Толстой готовит записку царскому правительству, в которой пишет о катастрофическом положении в армии. Но вскоре писатель убеждается в бесполезности этой меры и решает рассказать правду о Севастополе всей общественности, используя форму художественного повествования. Так появляются еще два рассказа: «Севастополь в мае» и «Севастополь в августе 1855 года».
Рассказ «Севастополь в мае».
Весной опять начались бомбардировки города. После одной из них, особенно продолжительной и ожесточенной, союзники двинулись на штурм. Французам, атаковавшим Малахов курган, удалось выйти к нему с тыла и захватить несколько домов на Корабельной стороне. Перелом в ход сражения внесла отчаянная атака роты саперов, случайно оказавшихся рядом. Подоспевшими подкреплениями неприятель был выбит с окраин города. Англичане, шедшие на штурм Третьего бастиона, были остановлены в 400 м от цели.
Толстой рисует войну как безумие, заставляющее усомниться в разуме людей. Он судит о войне с нравственной точки зрения, показывает ее влияние на человеческую мораль Наполеон ради своего честолюбия губит миллионы, а какой-нибудь прапорщик Петрушков, этот «маленький Наполеон, маленький изверг, сейчас готов затеять сражение, убить человек сотню для того только, чтобы получить лишнюю звездочку или треть жалованья». Так в «Севастопольских рассказах» впервые в творчестве Толстого возникает «наполеоновская тема».
Толстой сосредоточивает внимание на лицах «аристократического» круга, показывая их тщеславие, которые обусловлены средой и воспитанием. Предметом анализа Толстого становятся противоречия побуждений и поступков, предрассудков и природной нравственности. Мы видим, что избалованный «аристократ» князь Гальцин оказывается способным испытать «ужасный стыд» за себя, вдруг ощутив собственную неправоту перед безмолвно выносящими свои страдания солдатами.
Восторгаясь героизмом солдат, Толстой основное внимание теперь уделяет выявлению несостоятельности аристократического офицерства и высших сфер военного руководства. Героизм солдат прост и обыкновенен: без позы и рисовки они обороняют свою землю, потому что не могут потерпеть иноземного насилия. Среди офицеров также есть храбрые, по-настоящему преданные родине люди. Но таких мало. Большая часть офицеров, в особенности аристократического происхождения, охвачена чувством тщеславия и самосохранения. Иные не прочь блеснуть храбростью. Но это показная бравада, объясняемая либо хвастливым молодечеством, либо желанием получить награду. Разоблачая показную смелость и ложный патриотизм офицерства, писатель использует излюбленный художественный метод «диалектики души».
Вывод: Толстой показывает правдивое изображение войны в крови и страданиях. Чтобы показать противоестественность войны, Толстой использует антитезу: мальчик и цветы в долине смерти. «И эти люди – христиане… не упадут с раскаянием вдруг на колени и со слезами радости и счастья и не обнимутся как братья? Нет! Белые тряпки спрятаны, и снова свистят орудия смерти и страданий, снова льется честная, невинная кровь и слышатся стоны и проклятия».
Севастополь в августе».
В конце августа 1855 г. началась последняя, самая ожесточенная бомбардировка Севастополя. Это самый страшный месяц долгой осады, окончившейся падением Севастополя. 800 орудий беспрестанно громили город. Потери защитников составляли 2-3 тысячи человек в день. 27 августа начался общий штурм. После захвата господствующей высоты - Малахова кургана - дальнейшая оборона потеряла всякий смысл. Когда на Корабельную сторону приехал Горчаков, он увидел горы трупов на подступах к Малахову кургану, французское знамя на его вершине и дал приказ к отступлению. Защитники крепости оставили южную часть Севастополя, по понтонному мосту перейдя через бухту. Закончилась 349-дневная оборона.
Третий из «Севастопольских рассказов» - «Севастополь в августе 1855 года» - посвящен последнему периоду обороны. Снова перед читателем будничное и тем более страшное лицо войны, голодные солдаты и матросы, измученные нечеловеческой жизнью на бастионах офицеры. Из отдельных лиц, помыслов, судеб складывается образ героического города, израненного, разрушенного, но не сдавшегося: «Почти каждый солдат, взглянув с северной стороны на оставленный Севастополь, с невыразимой горечью в сердце вздыхал и грозился врагам». «На дне души каждого лежит та благородная искра, которая сделает из него героя; но искра эта устает гореть ярко, придет роковая минута, она вспыхнет пламенем и осветит великие дела».
В третьем рассказе Толстой показывает войну глазами новичка, потому что главным для него здесь является исследование души человека на войне перед опасностью. Заканчивается рассказ анализом душевного состояния солдат, вынужденных оставить после одиннадцатимесячной обороны Севастополь. Толстой и его товарищи, покидая Севастополь, плакали. Слезы боли и гнев, скорбь о погибших героях, проклятие войне, угроза захватчикам.
Последний севастопольский рассказ был дописан в Петербурге, куда Л. Н. Толстой приехал в конце 1855 года уже прославленным писателем. В июле 1855г. Толстой был награжден орденом Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость», а в конце года – серебряной медалью «За защиту Севастополя». По окончании Крымской кампании получил бронзовую медаль «В память войны 1853 – 1856 годов».
Главным итогом войны было то, что Россия в целом устояла под ударами объединившихся против нее держав мира. Несмотря на серьезное военное поражение, она вышла из войны с минимальным уроном. Наиболее болезненным для России пунктом Парижского мира было положение, запрещавшее ей иметь военный флот и укрепления на Черном море.
Писатель, преклоняясь перед народом, его выносливостью, осуждает войну как средство решения спорных вопросов между государствами. Толстой отрицал захватнические войны как состояние, чуждое человеческой природе. Война, по его мнению, ожесточает человека, убивает в нем любовь к людям, без чего немыслима жизнь. Кроме того, война лишает человека способности наслаждаться окружающим миром, природой, так как он сосредоточен лишь на самом себе и желает одного - не быть убитым. Наконец, война извращает моральные представления людей. Словом, она «есть сумасшествие», и если «люди делают это сумасшествие, то они совсем не разумные создания, как у нас почему-то принято думать».
«Севастопольские рассказы» произвели большое впечатление на читателей и критиков. Н. Г. Чернышевский одним из первых откликнулся на произведения Толстого. В качестве важнейшей черты дарования Толстого Чернышевский выделял умение писателя воспроизводить человеческие переживания в их развитии. Это и определило, в конечном счете, глубину его психологического анализа. «Особенность таланта графа Толстого,- писал критик,- состоит в том, что он не ограничивается изображением результатов психического процесса: его интересует самый процесс,- и едва уловимые явления этой внутренней жизни, сменяющиеся 434 одно другим с чрезвычайною быстротой и неистощимым разнообразием, мастерски изображаются графом Толстым». Другая «сила, сообщающая его произведениям совершенно особенное достоинство», заключается, по мысли критика, в чистоте «нравственного чувства».
В 1855 г. Л. Толстой создал цикл из трёх рассказов, посвящённый обороне Севастополя.
Он сам был участником этих исторических событий, поэтому его рассказы ценны как свидетельства очевидца и как наблюдения и выводы гениального писателя. Рассказы написаны в жанре очерков, по горячим следам событий.
Историческая справка
Оборона Севастополя 1854-1855 гг. – героическая оборона русскими войсками в Крымской войне главной базы Черноморского флота – Севастополя.
Противники:
Российская империя – Британская империя, Французская империя, Османская империя, Сардинское королевство.
Командующие:
Нахимов П.С., Корнилов В.А., Тотлебен Э.И. – Франсуа Канробер, Жан-Жак Пелисье, Патрис де Мак-Магон, Фицрой Раглан, Альфонсо Ла-Мармора.
Блокада Севастополя – кульминация Крымской войны. Гарнизон Севастополя насчитывал около 7 тысяч человек, а англо-французский десант – более 60 тысяч человек. В короткий срок на южной стороне города были созданы оборонительные укрепления, с моря Севастопольскую бухту перекрыли специально затопленные корабли. Союзники рассчитывали захватить город за неделю, но они недооценили стойкость оборонявшихся русских войск. К обороне города присоединились и мирные жители. Осада продлилась 11 месяцев. В ходе осады союзники провели шесть массированных артиллерийских бомбардировок Севастополя с суши и моря.

К. П. Брюллов «В. А. Корнилов на борту брига «Фемистокл» (1835)
Севастопольскую оборону возглавлял начальник штаба Черноморского флота вице-адмирал В. А. Корнилов
, а после его гибели – командующий эскадрой вице-адмирал (с марта 1855 г. адмирал) П. С. Нахимов
.

П.С. Нахимов
«Гением» обороны Севастополя стал военный инженер генерал Э. И. Тотлебен
.

Генерал-инженер Е. И. Тотлебен
В 1854 г. борьба за город перешла в затяжную стадию. Союзники прорвались в Азовское море. В ночь на 28 августа (9 сентября) 1855 г. противник овладел ключевой позицией – Малаховым курганом, это предрешило исход Севастопольской обороны. Дальнейшая оборона города не имела смысла. Город был подожжён, пороховые погреба взорваны, военные суда, стоявшие в бухте, затоплены. Союзники только 30 августа (11 сентября) вступили в дымящиеся развалины Севастополя.

Ф. Рубо «Оборона Севастополя» (Малахов курган)
Потеря Севастополя стала большим ударом и способствовала скорейшему окончанию войны. Но оккупация города союзниками не изменила решимости русских солдат продолжать неравную борьбу. Их армия (115 тыс.) расположилась вдоль северного берега большой бухты; союзные войска (более 150 тыс. одной пехоты) заняли позиции от Байдарской долины к Чоргуну, по реке Чёрной и по южному берегу большой бухты. В военных действиях наступило затишье.
В ходе войны участникам антироссийской коалиции не удалось добиться всех своих целей, но удалось предотвратить усиление России на Балканах и на 15 лет лишить её Черноморского флота.
Крымская война дала толчок развитию вооружённых сил, военного и военно-морского искусства государств. Во многих странах начался переход от гладкоствольного оружия к нарезному, от парусного деревянного флота к паровому броненосному, зародились позиционные формы ведения войны.
Лев Толстой в Крымской войне

Лев Толстой в период написания «Севастопольских рассказов»
Когда в 1854 г. началась осада Севастополя англо-французскими и турецкими войсками, молодой писатель, полный патриотических настроений, добился перевода в Крымскую армию. С ноября 1854 по август 1855 гг. он находился в Севастополе и его окрестностях, дежурил на батарее на четвёртом бастионе под артиллерийскими обстрелами, участвовал в сражении на Чёрной речке и в боях во время последнего штурма города.
Прибыв в Севастополь, он сообщал брату: «Дух в войсках выше всякого описания... Только наше войско может стоять и побеждать (мы еще победим, в этом я убежден) при таких условиях».
Свои первые севастопольские впечатления Толстой передал в рассказе «Севастополь в декабре».
«Севастополь в декабре» (1854)
В декабре 1854 г. исполнился месяц после начала осады. Рассказ показывает осажденный город в его величии. Но писатель изображает войну без прикрас, без громких фраз, которые обычно сопровождают официальные известия о войне на страницах газет.

Ф. Рубо «Оборона Севастополя» (1904)
Город стал военным лагерем, в этом лагере происходит будничная, внешне беспорядочная суета: переполненный лазарет, удары ядер, взрывы гранат, мучения раненых, кровь, грязь и смерть... Защитники Севастополя просто и честно, без лишних слов выполняли свой тяжелый труд. «Из-за креста, из-за названия, из угрозы не могут принять люди эти ужасные условия: должна быть другая, высокая побудительная причина, – говорил Толстой. – И эта причина есть чувство, редко проявляющееся, стыдливое в русском, но лежащее в глубине души каждого – любовь к родине».
Толстой рассказывает о временной больнице. Здесь много раненых солдат, с ампутированными конечностями, «одних на койках, большей частью на полу».
Полтора месяца Толстой командовал батареей на четвертом бастионе, самом опасном из всех, а в перерывах между бомбардировками писал свою «Юность». Толстой не только заботился о поддержании боевого духа своих соратников, но и разработал ряд ценных военно-технических проектов, хлопотал о создании общества для просвещения солдат, об издании журнала для этой цели. И для него все очевиднее становилось не только величие, но и бессилие России, проявившееся в ходе Крымской войны.

Писатель решил было открыть глаза правительству на положение русской армии. Он составил специальную записку и передал её брату царя. В этой записке он смело назвал главную причину военных неудач: в России, столь могущественной своей материальной силой и силой своего духа, нет войска; есть толпы угнетенных рабов, повинующихся ворам, угнетающим наёмникам и грабителям...
Но скоро сам понял, что эта записка не сможет ничем помочь делу. А вот если рассказать о гибельном положении Севастополя и русской армии всему обществу? Показать бесчеловечность войны? И Толстой пишет свой второй рассказ «Севастополь в мае».
«Севастополь в мае» (1855)
Автор заранее предполагал, что рассказ может быть запрещен цензурой. Так и случилось: рассказ опубликовали в изуродованном цензурой виде. Но, несмотря на это, впечатление от него было потрясающим.
Толстой ударил своим рассказом по официальной идеологии, политике, государству. Он рисует войну как безумие, заставляющее усомниться в разуме людей.
Одна из сцен: объявлено перемирие, чтобы убрать трупы. Солдаты воюющих между собой армий с любопытством стремятся друг к другу. Завязываются беседы, слышатся шутки, смех. А десятилетний ребенок бродит среди убитых, собирая голубые цветы. И вдруг с тупым любопытством он останавливается перед обезглавленным трупом, разглядывает его и в ужасе бежит прочь.
Толстой пишет: «И эти люди – христиане... не упадут с раскаянием вдруг на колени... не обнимутся, как братья? Нет! Белые тряпки спрятаны, и снова свистят орудия смерти и страданий, снова льется честная, невинная кровь и слышатся стоны и проклятия».

Толстой судит о войне с нравственной точки зрения, не пытаясь выяснить социально-экономические причины войны. Он обращает внимание на честолюбие, властолюбие, корысть, свойственные большим и малым завоевателям. Наполеон ради своего честолюбия губит миллионы, а какой-нибудь прапорщик Петрушков, этот маленький Наполеон, маленький изверг, сейчас готов затеять сражение, убить человек сотню для того только, чтобы получить лишнюю звездочку или треть жалованья. Писатель показывает целую галерею маленьких наполеонов с их аристократическими замашками, суетным тщеславием и показным геройством. Им противопоставлен будничный героизм жителей города, солдат, матросов, боевых офицеров.
Бездушие, цинизм, эгоизм некоторых армейских служак возмущают писателя. Вот солдаты, раненные в тяжком бою, бредут в лазарет. Поручик Непшитшетский и адъютант князь Гальцин, наблюдавшие за боем издали, убеждены, что среди солдат много симулянтов, и они стыдят раненых, напоминают им о патриотизме. Гальцин останавливает высокого солдата с двумя ружьями.
Куда ты идешь и зачем? – закричал он на него строго. Но в это время, подойдя к солдату, он заметил, что правая рука его была за обшлагом и в крови выше локтя.
- Ранен, ваше благородие!
- Чем ранен?
- Сюда-то, должно, пулей, – сказал солдат, указывая на руку, – а уже здесь не могу знать, чем голову-то прошибло, – и он, нагнув ее, показал окровавленные слипшиеся волосы на затылке.
- А ружьё другое чье?
- Стуцер французский, ваше благородие, отнял; да я бы не пошел, кабы не евтого солдатика проводить, а то упадет неравно...
Тут даже князю Гальцину стало стыдно. Впрочем, уже на следующий день, гуляя по бульвару, он хвастает своим участием в деле...
Этот рассказ писатель заканчивает словами: «Герой же моей повести, которого я люблю всеми силами души, которого старался воспроизвести во всей красоте его и который всегда был, есть и будет прекрасен, – правда».
Последнему периоду Севастопольской обороны посвящён третий рассказ – «Севастополь в августе 1855 года».
«Севастополь в августе 1855 года»
Последний севастопольский рассказ был дописан в Петербурге, куда Толстой приехал в конце 1855 г. уже прославленным писателем.
В этом рассказе повествуется о судьбе новобранца Володи. Толстой показывает патриотизм, оптимизм, молодость Володи, который вызвался добровольцем в Севастополь, хотя старые бойцы не понимают, как можно было покинуть мир ради этой войны. Нужен офицер на Малахов курган, и Володя соглашается туда. Во время французской атаки он погибает. Описание этой смерти перекликается с эпизодом из романа «Война и мир», когда так же погибает младший брат Наташи Ростовой Петя. Толстой предостерегает от иллюзорности патриотических представлений на фоне жестокой и бессмысленной смерти, которую несет война.

Адмирал Нахимов на севастопольском бастионе
Читатель снова видит будничный и страшный лик войны: голодные солдаты и матросы, измученные нечеловеческой жизнью на бастионах офицеры, а подальше от огня – воры-интенданты с очень красивой, воинственной внешностью.
Город изранен, разрушен, но не сдаётся. Толстой, как и его боевые товарищи, плакал, покидая пылающий Севастополь. Он скорбит о погибших героях, проклинает войну...
В «Севастопольских рассказах» Толстой размышляет о формировании человеческой души, об отношении к народу, к родине, к истории. Его интересует психология людей, втянутых в большие исторические события. Он ставит перед читателями важные проблемы войны и мира, истинного героизма, патриотизма, раскрывает глубины человеческой психики перед лицом смерти.
Солдат в изображении Толстого – это скромный труженик, истинный герой, который и не подозревает, что он герой. Для современников Толстого такое понимание простого солдата было открытием.
Которой героем был русский народ». Это – подчеркнуто простой и деловой рассказ очевидца, стремящегося сказать всю правду о войне . Герои осады показаны обыкновенными людьми, со всеми человеческими слабостями и недостатками. Штабс-капитан Михайлов способен под пулями неприятеля отправиться спасать товарища, и он же на гулянье тщеславится тем, что ходит под руку с «аристократами». Автор беспощадно разрушает романтическую традицию «героизма»; война – не красивое, блистательное зрелище «с музыкой и барабанным боем, с развевающимися знаменами и гарцующими генералами; ее настоящее выражение в крови, в страданиях, в смерти».
Толстой. Правда о войне в «Севастопольских рассказах»
К предмету воспроизведения, к которому прежде подходили с запасами пышных слов, со всевозможными риторическими приемами, воспевая нечеловеческие доблести и красоту битв, Толстой подошел с совершено иными орудиями изображения. Он описал воинов во всей их будничной ежедневной обстановке, отбросив риторические украшения, ложный пафос; и если в описаниях Толстого исчез романтический героизм и вся так называемая «марлиновщина », то зато под его пером рельефно вырисовывались те скромные подвиги незаметных героев , которые сильнее говорят, чем романтические эффекты фальшивых повестей. Тяжкие труды солдат, их обратившаяся в привычку отвага под пулями и гранатами, патриотический подъем духа среди солдат и офицеров, спокойное отношение к смерти – все это тонко схвачено карандашом художника. Но характеризуя общее настроение, он со всей силой реалистического карандаша изображает отдельные фигуры и типы в войске, детали в характере и поведении людей, черты их душевного уклада.
Люди со всеми их слабостями, с чертами и мелочными и героическими, проходят здесь перед нами; писатель задачей себе ставит беспристрастное изображение того, что есть. Мы видим, какие различные побудительные причины являются источником героизма у различных людей: у одного строгое исполнение военного долга, у другого – честолюбие и пр. Сам деливший с защитниками Севастополя и труды и опасности, Толстой хорошо знал их быт и все условия жизни осажденного города. Наконец, в изображении войны писатель также оставался верен своей задаче – быть правдивым – и вместо блестящей картины, исполненной фальшивых эффектов, дал жизненную картину убийств, разрушения, наводящую ужас лужами крови, грудами трупов и муками раненых. Описывая битву, автор вспоминает о непримиримом противоречии между заветами христианского учения и этой страшной бойней людей.
«Севастопольские рассказы» разделены на три части: «Севастополь в декабре 1854 года», «Севастополь в мае 1855 года» и «Севастополь в августе 1855 года». Герой последнего очерка, Володя Козельцов переживает многое из того, что было испытано самим автором в осажденном городе.
Автор «Войны и мира » и «Анны Карениной », неутомимый разрушитель всякой красивой лжи, сокрушитель кумиров и разоблачитель «возвышающих обманов» уже осознал себя в «Севастопольских рассказах». Нарядному и фальшивому романтизму он противопоставляет суровый, трезвый реализм. «Герой моей повести, – пишет он, – которого я люблю всеми силами души, которого старался воспроизвести во всей красоте его и который всегда был, есть и будет прекрасен, – правда». Эта аскетическая борьба за правду начинается разрушением ложного искусства и кончается уничтожением искусства вообще. Толстой вступает на роковой путь, приводящий его к полному нигилизму – эстетическому, культурному и общественному.
Лев Николаевич Толстой
«Севастопольские рассказы»
Севастополь в декабре месяце
«Утренняя заря только что начинает окрашивать небосклон над Сапун-горою; тёмно-синяя поверхность моря уже сбросила с себя сумрак ночи и ждёт первого луча, чтобы заиграть весёлым блеском; с бухты несёт холодом и туманом; снега нет — всё черно, но утренний резкий мороз хватает за лицо и трещит под ногами, и далёкий неумолкаемый гул моря, изредка прерываемый раскатистыми выстрелами в Севастополе, один нарушает тишину утра… Не может быть, чтобы при мысли, что и вы в Севастополе, не проникло в душу вашу чувство какого-то мужества, гордости и чтоб кровь не стала быстрее обращаться в ваших жилах…» Несмотря на то, что в городе идут боевые действия, жизнь идёт своим чередом: торговки продают горячие булки, а мужики — сбитень. Кажется, что здесь странно смешалась лагерная и мирная жизнь, все суетятся и пугаются, но это обманчивое впечатление: большинство людей уже не обращает внимания ни на выстрелы, ни на взрывы, они заняты «будничным делом». Только на бастионах «вы увидите… защитников Севастополя, увидите там ужасные и грустные, великие и забавные, но изумительные, возвышающие душу зрелища».
В госпитале раненые солдаты рассказывают о своих впечатлениях: тот, кто потерял ногу, не помнит боли, потому что не думал о ней; в женщину, относившую на бастион мужу обед, попал снаряд, и ей отрезали ногу выше колена. В отдельном помещении делают перевязки и операции. Раненые, ожидающие своей очереди на операцию, в ужасе видят, как доктора ампутируют их товарищам руки и ноги, а фельдшер равнодушно бросает отрезанные части тел в угол. Здесь можно видеть «ужасные, потрясающие душу зрелища… войну не в правильном, красивом и блестящем строе, с музыкой и барабанным боем, с развевающимися знамёнами и гарцующими генералами, а… войну в настоящем её выражении — в крови, в страданиях, в смерти…». Молоденький офицер, воевавший на четвёртом, самом опасном бастионе, жалуется не на обилие бомб и снарядов, падающих на головы защитников бастиона, а на грязь. Это его защитная реакция на опасность; он ведёт себя слишком смело, развязно и непринуждённо.
По пути на четвёртый бастион всё реже встречаются невоенные люди, и всё чаще попадаются носилки с ранеными. Собственно на бастионе офицер-артиллерист ведёт себя спокойно (он привык и к свисту пуль, и к грохоту взрывов). Он рассказывает, как во время штурма пятого числа на его батарее осталось только одно действующее орудие и очень мало прислуги, но всё же на другое утро он уже опять палил из всех пушек.
Офицер вспоминает, как бомба попала в матросскую землянку и положила одиннадцать человек. В лицах, осанке, движениях защитников бастиона видны «главные черты, составляющие силу русского, — простоты и упрямства; но здесь на каждом лице кажется вам, что опасность, злоба и страдания войны, кроме этих главных признаков, проложили ещё следы сознания своего достоинства и высокой мысли и чувства… Чувство злобы, мщения врагу… таится в душе каждого». Когда ядро летит прямо на человека, его не покидает чувство наслаждения и вместе с тем страха, а затем он уже сам ожидает, чтобы бомба взорвалась поближе, потому что «есть особая прелесть» в подобной игре со смертью. «Главное, отрадное убеждение, которое вы вынесли, — это убеждение в невозможности взять Севастополь, и не только взять Севастополь, но поколебать где бы то ни было силу русского народа… Из-за креста, из-за названия, из угрозы не могут принять люди эти ужасные условия: должна быть другая высокая побудительная причина — эта причина есть чувство, редко проявляющееся, стыдливое в русском, но лежащее в глубине души каждого, — любовь к родине… Надолго оставит в России великие следы эта эпопея Севастополя, которой героем был народ русский…»
Севастополь в мае
Проходит полгода с момента начала боевых действий в Севастополе. «Тысячи людских самолюбий успели оскорбиться, тысячи успели удовлетвориться, надуться, тысячи — успокоиться в объятиях смерти» Наиболее справедливым представляется решение конфликта оригинальным путём; если бы сразились двое солдат (по одному от каждой армии), и победа бы осталась за той стороной, чей солдат выйдет победителем. Такое решение логично, потому что лучше сражаться один на один, чем сто тридцать тысяч против ста тридцати тысяч. Вообще война нелогична, с точки зрения Толстого: «одно из двух: или война есть сумасшествие, или ежели люди делают это сумасшествие, то они совсем не разумные создания, как у нас почему-то принято думать»
В осаждённом Севастополе по бульварам ходят военные. Среди них — пехотный офицер (штабс-капитан) Михайлов, высокий, длинноногий, сутулый и неловкий человек. Он недавно получил письмо от приятеля, улана в отставке, в котором тот пишет, как его жена Наташа (близкий друг Михайлова) с увлечением следит по газетам за передвижениями его полка и подвигами самого Михайлова. Михайлов с горечью вспоминает свой прежний круг, который был «до такой степени выше теперешнего, что когда в минуты откровенности ему случалось рассказывать пехотным товарищам, как у него были свои дрожки, как он танцевал на балах у губернатора и играл в карты с штатским генералом», его слушали равнодушно-недоверчиво, как будто не желая только противоречить и доказывать противное
Михайлов мечтает о повышении. Он встречает на бульваре капитана Обжогова и прапорщика Сусликова, служащих его полка, и они пожимают ему руку, но ему хочется иметь дело не с ними, а с «аристократами» — для этого он и гуляет по бульвару. «А так как в осаждённом городе Севастополе людей много, следовательно, и тщеславия много, то есть и аристократы, несмотря на то, что ежеминутно висит смерть над головой каждого аристократа и неаристократа… Тщеславие! Должно быть, оно есть характеристическая черта и особенная болезнь нашего века… Отчего в наш век есть только три рода людей: одних — принимающих начало тщеславия как факт необходимо существующий, поэтому справедливый, и свободно подчиняющихся ему; других — принимающих его как несчастное, но непреодолимое условие, и третьих — бессознательно, рабски действующих под его влиянием…»
Михайлов дважды нерешительно проходит мимо кружка «аристократов» и, наконец, отваживается подойти и поздороваться (прежде он боялся подойти к ним оттого, что они могли вовсе не удостоить его ответом на приветствие и тем самым уколоть его больное самолюбие). «Аристократы» — это адъютант Калугин, князь Гальцин, подполковник Нефердов и ротмистр Праскухин. По отношению к подошедшему Михайлову они ведут себя достаточно высокомерно; например, Гальцин берет его под руку и немного прогуливается туда-сюда только потому, что знает, что этот знак внимания должен доставить штабс-капитану удовольствие. Но вскоре «аристократы» начинают демонстративно разговаривать только друг с другом, давая тем самым понять Михайлову, что больше не нуждаются в его обществе.
Вернувшись домой, Михайлов вспоминает, что вызвался идти наутро вместо заболевшего офицера на бастион. Он чувствует, что его убьют, а если не убьют, то уж наверняка наградят. Михайлов утешает себя, что он поступил честно, что идти на бастион — его долг. По дороге он гадает, в какое место его могут ранить — в ногу, в живот или в голову.
Тем временем «аристократы» пьют чай у Калугина в красиво обставленной квартире, играют на фортепиано, вспоминают петербургских знакомых. При этом они ведут себя вовсе не так неестественно, важно и напыщенно, как делали на бульваре, демонстрируя окружающим свой «аристократизм». Входит пехотный офицер с важным поручением к генералу, но «аристократы» тут же принимают прежний «надутый» вид и притворяются, что вовсе не замечают вошедшего. Лишь проводив курьера к генералу, Калугин проникается ответственностью момента, объявляет товарищам, что предстоит «жаркое» дело.
Гальцин спрашивает, не пойти ли ему на вылазку, зная, что никуда не пойдёт, потому что боится, а Калугин принимается отговаривать Гальцина, тоже зная, что тот никуда не пойдёт. Гальцин выходит на улицу и начинает бесцельно ходить взад и вперёд, не забывая спрашивать проходящих мимо раненых, как идёт сражение, и ругать их за то, что они отступают. Калугин, отправившись на бастион, не забывает попутно демонстрировать всем свою храбрость: не нагибается при свисте пуль, принимает лихую позу верхом. Его неприятно поражает «трусость» командира батареи, о храбрости которого ходят легенды.
Не желая напрасно рисковать, полгода проведший на бастионе командир батареи в ответ на требование Калугина осмотреть бастион отправляет Калугина к орудиям вместе с молоденьким офицером. Генерал отдаёт приказ Праскухину уведомить батальон Михайлова о передислокации. Тот успешно доставляет приказ. В темноте под обстрелом противника батальон начинает движение. При этом Михайлов и Праскухин, идя бок о бок, думают только о том, какое впечатление они производят друг на друга. Они встречают Калугина, который, не желая лишний раз «себя подвергать», узнает о ситуации на бастионе от Михайлова и поворачивает обратно. Рядом с ними взрывается бомба, погибает Праскухин, а Михайлов ранен в голову. Он отказывается идти на перевязочный пункт, потому что его долг — быть вместе с ротой, а кроме того, за рану ему положена награда. Ещё он считает, что его долг — забрать раненого Праскухина или же удостовериться, что тот мёртв. Михайлов под огнём ползёт обратно, убеждается в гибели Праскухина и со спокойной совестью возвращается.
«Сотни свежих окровавленных тел людей, за два часа тому назад полных разнообразных высоких и мелких надежд и желаний, с окоченелыми членами, лежали на росистой цветущей долине, отделяющей бастион от траншеи, и на ровном полу часовни Мёртвых в Севастополе; сотни людей — с проклятиями и молитвами на пересохших устах — ползали, ворочались и стонали, — одни между трупами на цветущей долине, другие на носилках, на койках и на окровавленном полу перевязочного пункта; а всё так же, как и в прежние дни, загорелась зарница над Сапун-горою, побледнели мерцающие звезды, потянул белый туман с шумящего тёмного моря, зажглась алая заря на востоке, разбежались багровые длинные тучки по светло-лазурному горизонту, и все так же, как и в прежние дни, обещая радость, любовь и счастье всему ожившему миру, выплыло могучее, прекрасное светило».
На другой день «аристократы» и прочие военные прогуливаются по бульвару и наперебой рассказывают о вчерашнем «деле», но так, что в основном излагают «то участие, которое принимал, и храбрость, которую выказал рассказывающий в деле». «Всякий из них маленький Наполеон, маленький изверг и сейчас готов затеять сражение, убить человек сотню для того только, чтобы получить лишнюю звёздочку или треть жалованья».
Между русскими и французами объявлено перемирие, простые солдаты свободно общаются друг с другом и, кажется, не испытывают по отношению к противнику никакой вражды. Молодой кавалерийский офицер просто рад возможности поболтать по-французски, думая, что он невероятно умён. Он обсуждает с французами, насколько бесчеловечное дело они затеяли вместе, имея в виду войну. В это время мальчишка ходит по полю битвы, собирает голубые полевые цветы и удивлённо косится на трупы. Повсюду выставлены белые флаги.
«Тысячи людей толпятся, смотрят, говорят и улыбаются друг другу. И эти люди — христиане, исповедующие один великий закон любви и самоотвержения, глядя на то, что они сделали, не упадут с раскаянием вдруг на колени перед тем, кто, дав им жизнь, вложил в душу каждого, вместе с страхом смерти, любовь к добру и прекрасному, и со слезами радости и счастия не обнимутся как братья? Нет! Белые тряпки спрятаны — и снова свистят орудия смерти и страданий, снова льётся чистая невинная кровь и слышатся стоны и проклятия… Где выражение зла, которого должно избегать? Где выражение добра, которому должно подражать в этой повести? Кто злодей, кто герой её? Все хороши и все дурны… Герой же моей повести, которого я люблю всеми силами души, которого старался воспроизвести во всей красоте его и который всегда был, есть и будет прекрасен, — правда»
Севастополь в августе 1855 года
Из госпиталя на позиции возвращается поручик Михаил Козельцов, уважаемый офицер, независимый в своих суждениях и в своих поступках, неглупый, во многом талантливый, умелый составитель казённых бумаг и способный рассказчик. «У него было одно из тех самолюбии, которое до такой степени слилось с жизнью и которое чаще всего развивается в одних мужских, и особенно военных кружках, что он не понимал другого выбора, как первенствовать или уничтожиться, и что самолюбие было двигателем даже его внутренних побуждений».
На станции скопилось множество проезжающих: нет лошадей. У некоторых офицеров, направляющихся в Севастополь, нет даже подъёмных денег, и они не знают, на какие средства продолжить путь. Среди ожидающих оказывается и брат Козельцова, Володя. Вопреки семейным планам Володя за незначительные проступки вышел не в гвардию, а был направлен (по его собственному желанию) в действующую армию. Ему, как всякому молодому офицеру, очень хочется «сражаться за Отечество», а заодно и послужить там же, где старший брат.
Володя — красивый юноша, он и робеет перед братом, и гордится им. Старший Козельцов предлагает брату немедленно ехать вместе с ним в Севастополь. Володя как будто смущается; ему уже не очень хочется на войну, а, кроме того, он, сидя на станции, успел проиграть восемь рублей. Козельцов из последних денег оплачивает долг брата, и они трогаются в путь. По дороге Володя мечтает о героических подвигах, которые он непременно совершит на войне вместе с братом, о своей красивой гибели и предсмертных упрёках всем прочим за то, что те не умели при жизни оценить «истинно любивших Отечество», и т. д.
По прибытии братья отправляются в балаган обозного офицера, который пересчитывает кучу денег для нового полкового командира, обзаводящегося «хозяйством». Никто не понимает, что заставило Володю бросить спокойное насиженное место в далёком тылу и приехать без всякой для себя выгоды в воюющий Севастополь. Батарея, к которой прикомандирован Володя, стоит на Корабельной, и оба брата отправляются ночевать к Михаилу на пятый бастион. Перед этим они навещают товарища Козельцова в госпитале. Он так плох, что не сразу узнает Михаила, ждёт скорой смерти как избавления от страданий.
Выйдя из госпиталя, братья решают разойтись, и в сопровождении денщика Михаила Володя уходит в свою батарею. Батарейный командир предлагает Володе переночевать на койке штабс-капитана, который находится на самом бастионе. Впрочем, на койке уже спит юнкер Вланг; ему приходится уступить место прибывшему прапорщику (Володе). Сперва Володя не может уснуть; его то пугает темнота, то предчувствие близкой смерти. Он горячо молится об избавлении от страха, успокаивается и засыпает под звуки падающих снарядов.
Тем временем Козельцов-старший прибывает в распоряжение нового полкового командира — недавнего своего товарища, теперь отделённого от него стеной субординации. Командир недоволен тем, что Козельцов преждевременно возвращается в строй, но поручает ему принять командование над его прежней ротой. В роте Козельцова встречают радостно; заметно, что он пользуется большим уважением среди солдат. Среди офицеров его также ожидает тёплый приём и участливое отношение к ранению.
На другой день бомбардировка продолжается с новой силой. Володя начинает входить в круг артиллерийских офицеров; видна взаимная симпатия их друг к другу. Особенно Володя нравится юнкеру Влангу, который всячески предугадывает любые желания нового прапорщика. С позиций возвращается добрый штабс-капитан Краут, немец, очень правильно и слишком красиво говорящий по-русски. Заходит разговор о злоупотреблениях и узаконенном воровстве на высших должностях. Володя, покраснев, уверяет собравшихся, что подобное «неблагородное» дело никогда не случится с ним.
На обеде у командира батареи всем интересно, разговоры не умолкают несмотря на то, что меню весьма скромное. Приходит конверт от начальника артиллерии; требуется офицер с прислугой на мортирную батарею на Малахов курган. Это опасное место; никто сам не вызывается идти. Один из офицеров указывает на Володю и, после небольшой дискуссии, он соглашается отправиться «обстреляться» Вместе с Володей направляют Вланга. Володя принимается за изучение «Руководства» по артиллерийской стрельбе. Однако по прибытии на батарею все «тыловые» знания оказываются ненужными: стрельба ведётся беспорядочно, ни одно ядро по весу даже не напоминает упомянутые в «Руководстве», нет рабочих, чтобы починить разбитые орудия. К тому же ранят двух солдат его команды, а сам Володя неоднократно оказывается на волосок от гибели.
Вланг очень сильно напуган; он уже не в состоянии скрыть это и думает исключительно о спасении собственной жизни любой ценой. Володе же «жутко немножко и весело». В блиндаже Володи отсиживаются и его солдаты. Он с интересом общается с Мельниковым, который не боится бомб, будучи уверен, что умрёт другой смертью. Освоившись с новым командиром, солдаты начинают при Володе обсуждать, как придут к ним на помощь союзники под командованием князя Константина, как обеим воюющим сторонам дадут отдых на две недели, а за каждый выстрел тогда будут брать штраф, как на войне месяц службы станут считать за год и т. д.
Несмотря на мольбы Вланга, Володя выходит из блиндажа на свежий воздух и сидит до утра с Мельниковым на пороге, пока вокруг падают бомбы и свистят пули. Но поутру уже батарея и орудия приведены в порядок, а Володя начисто забывает об опасности; он только радуется, что хорошо исполняет свои обязанности, что не показывает трусости, а наоборот, считается храбрым.
Начинается французский штурм. Полусонный Козельцов выскакивает к роте, спросонья больше всего озабоченный тем, чтобы его не посчитали за труса. Он выхватывает свою маленькую сабельку и впереди всех бежит на врага, криком воодушевляя солдат. Его ранят в грудь. Очнувшись, Козельцов видит, как доктор осматривает его рану, вытирает пальцы о его пальто и подсылает к нему священника. Козельцов спрашивает, выбиты ли французы; священник, не желая огорчать умирающего, говорит, что победа осталась за русскими. Козельцов счастлив; «он с чрезвычайно отрадным чувством самодовольства подумал, что он хорошо исполнил свой долг, что в первый раз за всю свою службу он поступил так хорошо, как только можно было, и ни в чем не может упрекнуть себя». Он умирает с последней мыслью о брате, и ему Козельцов желает такого же счастья.
Известие о штурме застаёт Володю в блиндаже. «Не столько вид спокойствия солдат, сколько жалкой, нескрываемой трусости юнкера возбудил его». Не желая быть похожим на Вланга, Володя командует легко, даже весело, но вскоре слышит, что французы обходят их. Он видит совсем близко вражеских солдат, его это так поражает, что он застывает на месте и упускает момент, когда ещё можно спастись. Рядом с ним от пулевого ранения погибает Мельников. Вланг пытается отстреляться, зовёт Володю бежать за ним, но, прыгнув в траншею, видит, что Володя уже мёртв, а на том месте, где он только что стоял, находятся французы и стреляют по русским. Над Малаховым курганом развевается французское знамя.
Вланг с батареей на пароходе прибывает в более безопасную часть города. Он горько оплакивает павшего Володю; к которому по-настоящему привязался. Отступающие солдаты, переговариваясь между собою, замечают, что французы недолго будут гостить в городе. «Это было чувство, как будто похожее на раскаяние, стыд и злобу. Почти каждый солдат, взглянув с Северной стороны на оставленный Севастополь, с невыразимою горечью в сердце вздыхал и грозился врагам».
Севастополь в декабре месяце
В городе идут бои, но жизнь продолжается: продают горячие булочки, сбитень. Жизнь лагерная и мирная странно смешалась. Люди уже не обращают внимания на выстрелы, взрывы. Раненые в госпитале делятся впечатлениями. Потерявший ногу не помнит боли. Ожидающие операцию с ужасом наблюдают, как ампутируют руки и ноги. Фельдшер бросает отрезанное в угол. Здесь война не в правильном строе с музыкой, а кровь, страдания, смерть. Молодой офицер из 4-го, самого опасного бастиона, сетует не на бомбы, а на грязь. Всё реже на пути к 4-му укреплению встречаются невоенные и чаще несут раненых. Артиллерист рассказывает, что 5-го числа оставалось одно орудие и мало прислуги, а наутро уже опять палили из всех пушек. Офицер вспомнил, как бомба упала в землянку и убила 11 человек. В защитниках бастиона видны черты, что составляют силу народа: простота и упрямство, достоинство и высокие мысли и чувства. В эпопее Севастополя героем стал народ русский.
Севастополь в мае
Прошло полгода, как идут бои в Севастополе. Тысячи успокоились в объятиях смерти. Справедливее, чтобы сразились двое солдат - от каждой армии по одному. А победа той стороне засчиталась, чей солдат победил. Ведь война – это сумасшествие. По осаждённому Севастополю ходят военные. Пехотный офицер Михайлов, высокий, сутулый, неловкий человек, получил письмо с рассказом, как его Наташа, жена, следит по газетам за событиями. Он тщеславен, жаждет повышения. Михайлов нерешительно идет к адъютанту Калугину, князю Гальцину и другим, составляющим кружок аристократов. Они высокомерны и, уделив внимание, начинают говорить друг с другом, демонстрируя, что не нуждаются в обществе Михайлова. Офицер идет на бастион и гадает, куда его ранят. Аристократы пьют чай слушают фортепиано, болтают. Пехотный офицер входит с важным поручением – и все принимают надутый вид. Будет жаркое дело.
Гальцин боится вылазок на передовую. Он ходит по улице, спрашивая раненых, как идет бой и ругает, что отступают. Калугин на бастионе демонстрирует храбрость: не сгибается, лихо сидит верхом. Его поражает якобы трусость легендарного командира батареи.
Под обстрелом батальон передислоцируется. Михайлов и Праскухин встречают Калугина, он узнает о положении бастиона от Михайлова, поворачивает обратно, где безопаснее. Взрывается бомба и погибает Праскухин. Михайлов, хоть и ранен, не идет на перевязку, остается с ротой. Он ползком под огнем убеждается в гибели Праскухина.
А назавтра аристократы опять гуляют по бульвару, рассказывая о жарком деле, словно каждый совершил подвиг.
Севастополь в августе 1855 г.
На позиции из госпиталя едет Михаил Козельцов, поручик, уважаемый за независимость в суждениях и поступках. На станции нет лошадей. Здесь же и брат Козельцова. Володя по собственному желанию едет сражаться за Отечество там, где старший брат. Прибыв на место, братья идут ночевать на 5-ый бастион. Володя уходит в свою батарею. Его пугает темнота, он не может уснуть и молится об избавлении от страха.
Козельцов-старший принял командование над своей же ротой, где ему рады. Бомбардировки продолжаются с новой силой. Потребовался офицер на Малахов курган. Место опасное, но Козельцов соглашается. Он несколько раз был в шаге от гибели. На батарее орудия уже в порядке, и Володя, забыв про опасность, рад что справился и считается храбрым. Начинается штурм. Козельцов бежит впереди роты со своей сабелькой. Он ранен в грудь. Доктор, осмотрев рану, подзывает священника. Козельцова интересует - выбиты ли французы. Не желая огорчать смертельно раненого, священник уверяет в победе русских. Володя умирает с мыслью о брате.
Над Малаховым курганом развевается французское знамя. Но отступающие солдаты, уверены, что французы недолго будут здесь гостить.
Сочинения
Сочинение по циклу «Севастопольских рассказов» Л. ТолстогоТолстой Лев Николаевич
Севастополь в мае (Севастопольские рассказы - 3)
Л.Н.Толстой
СЕВАСТОПОЛЬ В МАЕ
Уже шесть месяцев прошло с тех пор, как просвистало первое ядро с бастионов Севастополя и взрыло землю на работах неприятеля, и с тех пор тысячи бомб, ядер и пуль не переставали летать с бастионов, в траншей и с траншей на бастионы и ангел смерти не переставал парить над ними.
Тысячи людских самолюбий успели оскорбиться, тысячи успели удовлетвориться, надуться, тысячи-успокоиться в объятиях смерти. Сколько звездочек надето, сколько снято, сколько Анн, Владимиров, сколько розовых гробов и полотняных покровов! А все те же звуки раздаются с бастионов, все так же - с невольным трепетом и суеверным страхом- смотрят в ясный вечер французы из своего лагеря на желтоватую изрытую землю бастионов Севастополя, на черные движущиеся по ним фигуры наших матросов и считают амбразуры, из которых сердито торчат чугунные пушки; все так же в трубу рассматривает с вышки телеграфа штурманский унтер-офицер пестрые фигуры французов, их батареи, палатки, колонны, движущиеся по Зеленой горе, и дымки, вспыхивающие в траншеях, и все с тем же жаром стремятся с различных сторон света разнородные толпы людей, с еще более разнородными желаниями, к этому роковому месту.
А вопрос, не решенный дипломатами, еще меньше решается порохом и кровью.
Мне часто приходила странная мысль: что, ежели бы одна воюющая сторона предложила другой - выслать из каждой армии по одному солдату? Желание могло бы показаться странным, но отчего не исполнить его? Потом выслать другого, с каждой стороны, потом третьего, четвертого и т. д., до тех пор, пока осталось бы по одному солдату в каждой армии (предполагая, что армии равносильны и что количество было бы заменяемо качеством). И тогда, ежели уже действительно сложные политические вопросы между разумными представителями разумных созданий должны решаться дракой, пускай бы подрались эти два солдата - один бы осаждал город, другой бы защищал его.
Это рассуждение кажется только парадоксом, но оно верно. Действительно, какая бы была разница между одним русским, воюющим против одного представителя союзников, и между восемьюдесятью тысячами воюющих против восьмидесяти тысяч? Отчего не сто тридцать пять тысяч против ста тридцати пяти тысяч? Отчего не двадцать тысяч против двадцати тысяч? Отчего не двадцать против двадцати? Отчего не один против одного? Никак одно не логичнее другого. Последнее, напротив, гораздо логичнее, потому что человечнее. Одно из двух: или война есть сумасшествие, или ежели люди делают это сумасшествие, то они совсем не разумные создания, как у нас почему-то принято думать.
В осажденном городе Севастополе, на бульваре, около павильона играла полковая музыка, и толпы военного народа и женщин празднично двигались по дорожкам. Светлое весеннее солнце взошло с утра над английскими работами, перешло на бастионы, потом на город-на Николаевскую казарму и, одинаково радостно светя для них, теперь спускалось к далекому синему морю, которое, мерно колыхаясь, светилось серебряным блеском.
Высокий, немного сутуловатый пехотный офицер, натягивая на руку не совсем белую, но опрятную перчатку, вышел из калитки одного из маленьких матросских домиков, настроенных на левой стороне Морской улицы, и, задумчиво глядя себе под ноги, направился в гору к бульвару. Выражение некрасивого с низким лбом лица этого офицера изобличало тупость умственных способностей, но притом рассудительность, честность и склонность к порядочности. Он был дурно сложен длинноног, неловок и как будто стыдлив в движениях. На нем была незатасканная фуражка, тонкая, немного странного лиловатого цвета шинель, из-под борта которой виднелась золотая цепочка часов; панталоны со штрипками и чистые, блестящие 1000 , хотя и с немного стоптанными в разные стороны каблуками, опойковые сапоги,- но не столько по этим вещам, которые не встречаются обыкновенно у пехотного офицера, сколько но общему выражению его персоны, опытный военный глаз сразу отличал в нем не совсем обыкновенного пехотного офицера, а немного повыше. Он должен был быть или немец, ежели бы не изобличали черты лица его чисто русское происхождение, или адъютант, или квартермистр полковой (но тогда бы у него были шпоры), или офицер, на время кампании перешедший из кавалерии, а может, и из гвардии. Он действительно был перешедший из кавалерии и в настоящую минуту, поднимаясь к бульвару, думал о письме, которое сейчас получил от бывшего товарища, теперь отставного, помещика Т. губернии, и жены его, бледной голубоглазой Наташи, своей большой приятельницы. Он вспомнил одно место письма, в котором товарищ пишет:
"Когда приносят нам "Инвалид", то Пупка (так отставной улан называл жену свою) бросается опрометью в переднюю, хватает газеты и бежит с ними на эс в беседку, в гостиную (в которой, помнишь, как славно мы проводили с тобой зимние вечера, когда полк стоял у нас в городе), и с таким жаром читает ваши геройские подвиги, что ты себе представить не можешь. Она часто про тебя говорит: "Вот Михайлов,- говорит она,- так это душка человек, я готова расцеловать его, когда увижу,- он сражается на бастионах и непременно получит Георгиевский крест, и про него в газетах напишут", и т. д., и т. д., так что я решительно начинаю ревновать к тебе". В другом месте он пишет: "До нас газеты доходят ужасно поздно, а хотя изустных новостей и много, не всем можно верить. Например, знакомые тебе барышни с музыкой рассказывали вчера, что уж будто Наполеон пойман нашими казаками и отослан в Петербург, но ты понимаешь, как много я этому верю. Рассказывал же нам один приезжий из Петербурга (он у министра, по особым порученьям, премилый человек, и теперь, как в городе никого нет, такая для нас рисурс, что ты себе представить не можешь) - так он говорит наверно, что наши заняли Евпаторию, так что французам нет уже сообщения с Балаклавой, и что у нас при этом убито двести человек, а у французов до пятнадцати тысяч. Жена была в таком восторге по этому случаю, что кутила целую ночь, и говорит, что ты, наверное, по ее предчувствию, был в этом деле и отличился..."
Несмотря на те слова и выражения, которые я нарочно отметил курсивом, и на весь тон письма, по которым высокомерный читатель, верно, составил себе истинное и невыгодное понятие в отношении порядочности о самом штабс-капитане Михайлове, на стоптанных сапогах, о товарище его, который пишет рисурс и имеет такие странные понятия о географии, о бледном друге на эсе (может быть, даже и не без основания вообразив себе эту Наташу с грязными ногтями), и вообще о всем этом праздном грязненьком провинциальном презренном для него круге, штабс-капитан Михайлов с невыразимо грустным наслаждением вспомнил о своем губернском бледном друге и как он сиживал, бывало, с ним по вечерам в беседке и говорил о чувстве, вспомнил о добром товарище-улане, как он сердился и ремизился, когда они, бывало, в кабинете составляли пульку по копейке, как жена смеялась над ним,- вспомнил о дружбе к себе этих людей (может быть, ему казалось, что было что-то больше со стороны бледного друга) : все эти лица с своей обстановкой мелькнули в его воображении в удивительно-сладком, отрадно-розовом цвете, и он, улыбаясь своим воспоминаниям, дотронулся рукою до кармана, в котором лежало это милое для него письмо. Эти воспоминания имели тем большую прелесть для штабс-капитана Михайлова, что тот круг, в котором ему теперь привелось жить в пехотном полку, был гораздо ниже того, в котором он вращался прежде, как кавалерист и дамский кавалер, везде хорошо принятый в городе Т.
Его прежний круг был до такой степени выше теперешнего, что когда в минуты откровенности ему случалось рассказывать пехотным товарищам, как у него были свои дрожки, как он танцевал на балах у губернатора и играл в карты с штатским генералом, его слушали равнодуш 1000 но-недоверчиво, как будто не желая только противоречить и доказывать противное-"пускай говорит", мол, и что ежели он не выказывал явного презрения к кутежу товарищей - водкой, к игре по четверти копейки на старые карты, и вообще к грубости их отношений, то это надо отнести к особенной кротости, уживчивости и рассудительности его характера.
От воспоминаний штабс-капитан Михайлов невольно перешел к мечтам и надеждам. "Каково будет удивление и радость Наташи,- думал он, шагая на своих стоптанных сапогах по узенькому переулочку,- когда она вдруг прочтет в "Инвалиде" описание, как я первый влез на пушку и получил Георгия. Капитана же я должен получить по старому представлению. Потом очень легко я в этом же году могу получить майора по линии, потому что много перебито, да и еще, верно, много перебьют нашего брата в эту кампанию. А потом опять будет дело, и мне, как известному человеку, поручат полк... подполковник... Анну на шею... полковник..."-и он был уже генералом, удостаивающим посещения Наташу, вдову товарища, который, по его мечтам, умрет к этому времени, когда звуки бульварной музыки ясное долетели до его слуха, толпы народа кинулись ему в глаза, и он очутился на бульваре прежним пехотным штабс-капитаном, ничего не значащим, неловким и робким.