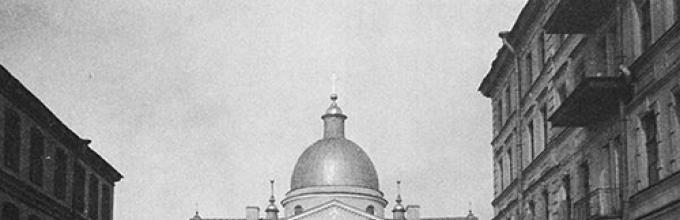О детском приюте принца Петра Ольденбургского, которого современники называли «просвещенным благотворителем», и о широком и «умном» социальном служении семьи Ольденбургских – очередной рассказ в рамках рубрики «Благотворительность и власть в истории России»
Здание приюта (реального училища) принца П. Г. Ольденбургского. Начало 1900-х гг
Начало. Приют открывается
В 1842 году принц Петр Георгиевич Ольденбургский взял под свое покровительство недавно открытый ночной детский приют в Рождественской части Санкт-Петербурга. В 1846 году представил императору план переустройства, и из средств Опекунского Совета города было выделено 60 тыс. руб. Были приобретены два смежных каменных дома с двором и садом, на углу Глухого и Прачечного переулков. Сюда переместилось благотворительное заведение. День 28 июня 1846 считается датой образования Приюта принца П. Г. Ольденбургского. А в 1848 г. был утвержден Устав о «Детском приюте принца Петра Георгиевича Ольденбургского».
 Церковь Рождества Христова на Песках, давшая название улицам Рождественской части
Церковь Рождества Христова на Песках, давшая название улицам Рождественской части
Первоначально приют давал детям элементарное образование, причем в женском отделении было обращено особое внимание на рукоделие, а в мужском – на ремесла. Около десяти лет существовал приют в этих условиях, а в 1857 г. был введен в действие новый устав, согласно которому была изменена учебная программа обоих отделений: в мужском было введено преподавание в объеме 4-х классов реальной прогимназии, с целью облегчить переход лучших воспитанников в средние учебные заведения, а в девичьем – семиклассное образование по курсу женских институтов и гимназий.
Приют начал формироваться как особенное учреждение, в котором образование, нравственное воспитание и дальнейшая судьба учеников были определены идеями и активным попечением принца Петра Георгиевича Ольденбургского, одного из самых просвещенных благотворителей своего времени.
Принц
Принц Петр Георгиевич Ольденбургский появился на свет 14 августа 1812 г. в Ярославле.
За несколько дней до Бородинской битвы у принца Георгия Петровича Ольденбургского и его супруги великой княгини Екатерины Павловны родился сын, названный при крещении Константин-Фридрих-Петр, известный впоследствии в России под именем принца Петра Георгиевича. Четырех месяцев от рождения принц лишился отца, и был перевезен к своей бабке, вдовствующей императрице Марии Феодоровне, супруге императора Павла I, а затем, когда Екатерина Павловна вступила в новый брак с наследным принцем Виртембергским, он последовал за своей матерью в Штутгарт.
На восьмом году от роду он лишился матери, и был (по желанию, высказанному принцессой перед кончиной), отвезен в Ольденбург к своему деду, герцогу Петру-Фридриху-Людвигу Ольденбургскому, где и получил дальнейшее воспитание.
Принц обучался древним и новым языкам, геометрии, географии, а также русскому языку. В последнее время своего пребывания в Ольденбурге с особенным интересом занимался юридическими науками и логикой под руководством Христиана Рунде.
 Ж.-Д. Кур, портрет принца П.Г. Ольденбургского в мундире Лейб-Гвардейского Преображенского полка (1842г)
Ж.-Д. Кур, портрет принца П.Г. Ольденбургского в мундире Лейб-Гвардейского Преображенского полка (1842г)
В конце 1830 г. император Николай I вызвал принца на русскую службу. 1 декабря 1830 г. принц прибыл в Петербург, был встречен очень радушно императором и зачислен на действительную службу в лейб-гвардии Преображенский полк. С этого времени принц постоянно проживал в России.
За время пятилетней службы в полку принц за отличие по службе был произведен в генерал-майоры, а 6 декабря 1834 г. – в генерал-лейтенанты.
С ранних лет принц отличался высокой способность к сопереживанию, был воспитан в гуманистических традициях, и выказал свое доброе сердце уже в качестве офицера полка: он обратил внимание на горькую участь солдатских детей, в большинстве случаев остававшихся без всякого образования. По его почину в Преображенском полку была устроена школа, и он принял ее под свой ближайший надзор: наряду с обучением грамоте в это школе обращали также внимание и на нравственное воспитание.
Это был первый опыт, который впоследствии успешно был применен и в других полках. Немало приложил стараний принц и для улучшения солдатского быта в гигиеническом отношении.
Экзекуция
Но в 1834 г. принц оставил военную службу – по той причине, что стал свидетелем вопиющего случая применения телесных наказаний. Случай, впрочем, оказался вопиющем только для принца Петра Георгиевича.
Поводом к переходу Петра Георгиевича из военной службы в гражданскую был следующий эпизод, обстоятельно рассказанный им статс-секретарю Половцову. Во время службы в Преображенском полку принцу пришлось, по служебной обязанности, присутствовать при том, как женщина была подвергнута телесному наказанию и прогнана сквозь строй, причем на её обнаженные плечи были наносимы солдатами палочные удары. Возмущенный такой картиной, Пётр Георгиевич с места экзекуции поехал к тогдашнему министру внутренних дел графу Блудову и заявил ему, что он никогда более не примет участия в приведении в исполнение подобного наказания, не существующего ни у одного сколько-нибудь просвещенного народа, а потому просил Блудова доложить Государю Императору его просьбу об увольнении от военной службы. Просьба была вскорости удовлетворена.
Общественная и благотворительная работа
Началась общественная и филантропическая деятельность принца: более всего его интересовали образовательные проекты.
В мае 1835 г., именным указом Николая I, по замыслу и на средства принца Ольденбургского, и при тесном участии М. М. Сперанского, с целью воспитания юридически компетентных кадров для административной и судебной деятельности, было основано Императорское училище правоведения.
 С. К. Зарянко, «Зал училища правоведения с группами учителей и воспитанников» (1840г.)
С. К. Зарянко, «Зал училища правоведения с группами учителей и воспитанников» (1840г.)
30 сентября 1839 года принц был Высочайше назначен почётным опекуном в Санкт-Петербургском Опекунском Совете и членом Советов Воспитательного Общества благородных девиц и училища ордена св. Екатерины. 14 октября того же года ему было поручено управление Санкт-Петербургской Мариинской больницей для бедных.
Деятельность принца приняла более широкие размеры с 1844 г., когда ему было поручено исполнять должность Председательствующего в Санкт-Петербургском Опекунском Совете. Постепенное увеличение числа женских учебных заведений требовало новых форм управления, сами их уставы нуждались в пересмотре. Для этого с 1 января 1845 был учрежден особый Главный Совет под председательством принца Ольденбургского, долгое время игравший роль как бы особого министерства женского образования в России.
В 1844 году принцем была основана первая в России Свято-Троицкая община сестер милосердия; открыта Мариинская больница (1858 г.) и Мариинское женское училище; детский приют на сто детей (в 1871 г. переименованный в «Детский приют Екатерины, Марии и Георгия»); детская больница (1869 г.), где впервые в истории отечественной медицины осуществлялось размещение пациентов по профилю заболевания (с 1918 г. носит имя педиатра К. А. Раухфуса).
Вообще же Принц Ольденбургский – один из крупнейших благотворителей своего времени: его средствам и активному попечению обязаны своим возникновением и развитием женский институт принцессы Терезии Ольденбургской; больницы Обуховская, Мариинская, Петропавловская и др.; Воспитательный Дом и пр.
На сбережения от денег «на булавки»
Принц был женат на принцессе Терезии-Вильгельмине-Фредерике-Изабелле-Шарлоте Нассауской. В их семье было восемь детей: Александра, Николай, Мария, Александр, Екатерина, Георгий, Константин, Терезия.
 Дети Петра Георгиевича и Терезии Васильевны Ольденбургских. Сер. 1850-х гг. Литография
Дети Петра Георгиевича и Терезии Васильевны Ольденбургских. Сер. 1850-х гг. Литография
Супруга помогала своему мужу в делах благотворительности, в организации женского образования.
 В.И.Гау, портрет принцессы Терезии Ольденбургской, урождённой Нассау (1836г.)
В.И.Гау, портрет принцессы Терезии Ольденбургской, урождённой Нассау (1836г.)
Принцесса Терезия Ольденбургская на сбережения от «туалетных денег» открыла женское училище своего имени. Также она участвовала в открытии первой в России Свято-Троицкой общины сестер милосердия, которая предоставляла комплекс услуг: приют, лечение, обучение, воспитание, восстановление душевных сил.
Скончался Пётр Георгиевич в 1881 г. и был похоронен на кладбище Свято-Троицкой Сергиевой Приморской мужской Пустыни (основанной в 1732 г. и достигшей расцвета во время наместничества свт. Игнатия Брянчанинова), близ Стрельны.
В 1889 году принцу был воздвигнут памятник с надписью «Просвещенному благотворителю» перед зданием Мариинской больницы на Литейном проспекте, а в 1912 году, в связи со столетием со дня его рождения, часть набережной реки Фонтанки была названа Набережной принца Петра Ольденбургского.
 Воспитанники приюта принца Ольденбургского и сестры милосердия у памятника П. Г. Ольденбургскому перед Мариинской больницей в день 100-летия со дня его рождения (Санкт-Петербург,1912 г. Фотоателье К. К. Буллы)
Воспитанники приюта принца Ольденбургского и сестры милосердия у памятника П. Г. Ольденбургскому перед Мариинской больницей в день 100-летия со дня его рождения (Санкт-Петербург,1912 г. Фотоателье К. К. Буллы)
Приют расширяется. Новое здание
И все же любимым детищем принца был «Детский приют принца Петра Георгиевича Ольденбургского».
Результаты обучения в приюте были столь благоприятны, а плата за содержание столь незначительна, что число желавших поступить в приют быстро возросло, и стены его (на углу Глухого и Прачечного переулков) скоро оказались слишком тесными. К счастью, Санкт-Петербургское городское общественное управление в 1858 году уступило бесплатно под постройку нового дома для приюта городскую землю, находящуюся в 12-й роте Измайловского полка.
Необходим был еще и капитал на постройку дома, и принц Петр Георгиевич жертвует из собственного достояния 40 тыс. рублей. Благородный почин вызвал приток и других пожертвований, явилась возможность приступить к сооружению нового здания, которое и было построено. Новое четырехэтажное здание по проекту академика архитектуры Генриха Христиановича Штегемана было освящено 22 октября 1861 года; а 5 декабря того же года в присутствии принца П. Г. Ольденбургского и великого князя Николая Николаевича Старшего с супругой был освящен домовый храм во имя иконы Божией Матери Утоли моя печали.
 Церковь приюта принца Ольденбургского. Интерьер. Фото 1890-х гг.
Церковь приюта принца Ольденбургского. Интерьер. Фото 1890-х гг.
Мужское и женское отделения приюта по учебным программам постепенно приближались к типу средних учебных заведений, с той лишь разницей, что, кроме общеобразовательных предметов, много времени в нем уделялось обучению ремеслам и рукоделиям. 31 декабря 1890 г. высочайшей волей приюту были дарованы права казенных реальных училищ, приравнивающее его отделения по правам к учебным заведениям Министерства народного просвещения. Выпускники приюта получили возможность продолжать учебу в высших учебных заведениях.
С 1867 года ежегодно проводились выставки сделанных руками воспитанниц «предметов мод и детских костюмов». Позже обучение рукоделию было на время прекращено и воспитанницы занимались лишь шитьем белья для Приюта, однако затем «сочли целесообразным открыть при приюте модный магазин и ввести занятия изящными работами».
 Воспитанники и воспитанницы, благотворители и члены Попечительского совета, преподаватели и служители приюта П.Г.Ольденбургского у новогодней ёлки (нач.20 в)
Воспитанники и воспитанницы, благотворители и члены Попечительского совета, преподаватели и служители приюта П.Г.Ольденбургского у новогодней ёлки (нач.20 в)
 Воспитанники приюта принца П. Г. Ольденбургского с преподавателями и священником приютского храма (1900-е гг)
Воспитанники приюта принца П. Г. Ольденбургского с преподавателями и священником приютского храма (1900-е гг)
 Воспитанники приюта принца П.Г. Ольденбургского в мастерской за изготовлением музыкальных инструментов (1911г)
Воспитанники приюта принца П.Г. Ольденбургского в мастерской за изготовлением музыкальных инструментов (1911г)
 Воспитанники приюта принца Ольденбургского за трапезой (1900-е гг)
Воспитанники приюта принца Ольденбургского за трапезой (1900-е гг)
 Воспитанники приюта принца П. Г. Ольденбургского на занятии по гимнастике (1900-е гг)
Воспитанники приюта принца П. Г. Ольденбургского на занятии по гимнастике (1900-е гг)
В «Положении о Приюте» (1890 г.) указывалось: «1. Приют имеет целью воспитание и образование детей обоего пола, преимущественно сирот, без различия их происхождения, состояния и вероисповедания. 2. Приют состоит из мужского и женского отделений, причем первое подразделяется на: а) реальное, б) низшее механико-техническое и в) ремесленное. 3. Приют находится в ведомстве Министерства внутренних дел. Главное заведование оным принадлежит попечителю и состоящему при нем Попечительному совету, а непосредственное управление вверяется директору, при содействии комитетов педагогического и хозяйственного. 28. Попечителем приюта назначается, с высочайшего соизволения, старший в роде потомок почившего в Бозе принца Петра Георгиевича Ольденбургского»
Эстафету благотворительности принял от отца Александр Петрович Ольденбургский. У него была блестящая военная карьера: участвовал в сражениях под Горным Дубняком, в осаде Плевны, перешел через Балканы, принимал участие в окончательном поражении Сулеймана-паши; имел чин генерала от инфантерии и звание генерал-адъютанта.
 Петр Георгиевич и Александр Петрович Ольденбургские; портрет по фотографиям (1910 г.)
Петр Георгиевич и Александр Петрович Ольденбургские; портрет по фотографиям (1910 г.)
И одновременно Александр Петрович состоял попечителем Императорского училища правоведения, основанного его отцом, Приюта Петра Георгиевича Ольденбургского, дома призрения душевнобольных, покровителем общества вспоможения нуждающимся ученицам женского училища принцессы Терезии. Императорский институт экспериментальной медицины обязан своим существованием инициативе и щедрым пожертвованиям принца Александра Петровича. Институт стал главным делом жизни принца.
Но и детский приют принца Петра Георгиевича Ольденбургского Александр Петрович не забывал. С 1884 г. программа мужского отделения была расширена до курса реальных училищ. Девушек же стали готовить «к предстоящим им в жизни обязанностям, воспитывая их в строго религиозном духе, Приют хочет научить их кулинарному искусству, домоведению и гигиене». С 1890 г. выпускники мужского отделения Приюта получили права оканчивающих низшие механикотехнические и реальные училища Министерства народного просвещения, а в женском отделении был прибавлен педагогический класс.
 Учащийся Реального училища (приют) принца П. Г. Ольденбургского (нач.20 в.); значок, состоящий из перекрещенных букв П (приют), П (Петра) и О (Ольденбургского) на головной убор учащегося приюта; Жетон Попечительства Императорского Человеколюбивого общества для сбора пожертвований на воспитание и устройство бедных детей в мастерство (на отвороте форменной куртки — см. фото учащегося). Подобные жетоны были именными, и изготавливались из серебра и золота. Жетоны вручались за особые заслуги перед обществом, как правило, за крупное денежное пожертвование. Обладание таким жетоном повышало общественный статус владельца. Чем так отличился этот молодой человек, что ему был вручен подобный жетон? Маловероятно, что это было денежное пожертвование. В этом учебным заведении не учились дети из обеспеченных семей. Вероятнее всего он был удостоен жетона за общественную работу
Учащийся Реального училища (приют) принца П. Г. Ольденбургского (нач.20 в.); значок, состоящий из перекрещенных букв П (приют), П (Петра) и О (Ольденбургского) на головной убор учащегося приюта; Жетон Попечительства Императорского Человеколюбивого общества для сбора пожертвований на воспитание и устройство бедных детей в мастерство (на отвороте форменной куртки — см. фото учащегося). Подобные жетоны были именными, и изготавливались из серебра и золота. Жетоны вручались за особые заслуги перед обществом, как правило, за крупное денежное пожертвование. Обладание таким жетоном повышало общественный статус владельца. Чем так отличился этот молодой человек, что ему был вручен подобный жетон? Маловероятно, что это было денежное пожертвование. В этом учебным заведении не учились дети из обеспеченных семей. Вероятнее всего он был удостоен жетона за общественную работу
В 1900 было открыто отделение приюта в Луге, в усадьбе, подаренной ему местным Городским управлением. В 1903 приют основал школу-здравницу на Черноморском побережье, в Гаграх, где учились дети, по здоровью вынужденные жить в теплом климате. При гагринском отделении, была основана народная начальная школа с совместным обучением детей обоего пола.
 Отделение приюта в Луге (реальное училище); нач. 20 в
Отделение приюта в Луге (реальное училище); нач. 20 в
 Вид здания приюта (дачи) принца П.Г. Ольденбургского в Лесном (1911г)
Вид здания приюта (дачи) принца П.Г. Ольденбургского в Лесном (1911г)
Супругой принца в 1868 г. стала Евгения Максимилиановна, дочь герцога Максимилиана Лейхтенбергского и Великой княгини Марии Николаевны, которая на протяжении всей жизни поддерживала благотворительные начинания супруга.
 Принц П.Г.Ольденбургский c невесткой принцессой Е.М. Ольденбургской в имении принцессы Рамонь в Воронежской губернии (до 1881 г)
Принц П.Г.Ольденбургский c невесткой принцессой Е.М. Ольденбургской в имении принцессы Рамонь в Воронежской губернии (до 1881 г)
Приют просуществовал более шестидесяти лет, до самой революции.
 «Краткий исторический очерк пятидесятилетней деятельности Приюта принца Петра Георгиевича Ольденбургского. 1846-1896 г.» С-Пб, 1896. Типография П.П.Сойкина
«Краткий исторический очерк пятидесятилетней деятельности Приюта принца Петра Георгиевича Ольденбургского. 1846-1896 г.» С-Пб, 1896. Типография П.П.Сойкина
Наиболее ценным следствием и показателем успешности трудов семьи принцев Ольденбургских явились судьбы тех, с кем им пришлось встретиться на своем жизненном пути прямо либо косвенно, когда благим делам служило уже само имя. Благодарные воспитанники для увековечивания памяти Ольденбургских учреждали стипендии их имени. В честь П.Г. Ольденбургского московские благотворительные организации открыли Детский приют, Ольденбургскую школу, приют имени Петра Георгиевича для слепых детей. В Санкт-Петербурге также возникла двухклассная школа принца Петра Георгиевича Ольденбургского.
Осенью 1917 г. А.П. Ольденбургский эмигрировал по Францию, где скончался в 1932 году. Погребен в Биаррице.
Могилу Петра Георгиевича Ольденбургского в 1920-х гг. разорили.
Храм Рождества Христова на Песках снесён в 1934 году. Рождественские улицы переименованы в Советские.
После революции апартаменты приюта не пустовали, здесь размещалась спецлечебница, в годы войны – госпиталь, после прорыва блокады – 1-я и 12-я школы и Дом пионеров Ленинского района. 30 апреля 1944 года здесь было сформировано Подготовительное военно-морское училище с трёхлетним сроком обучения.
 Ныне здание приюта сильно обветшало и нуждается в капитальном ремонте
Ныне здание приюта сильно обветшало и нуждается в капитальном ремонте
Однако времена меняются. Например, гимназии №157, история которой началась в 1868-ом году, как история Рождественской женской прогимназии — с 1869 г. под покровительством и попечением принцессы Евгении Максимилиановны Ольденбургской, в 2000 году было возвращено историческое имя: в 1899 г. по высочайшему повелению Николая II Санкт-Петербургской Рождественской гимназии присвоено особое наименование: «Санкт-Петербургская гимназия принцессы Евгении Максимилиановны Ольденбургской»
А храм на Песках собираются воссоздать.
 Гимназия №157 г. Санкт-Петербурга имени принцессы Е. М. Ольденбургской на улице Пролетарской Диктатуры (бывш. Лафонской ул.). Здание постройки 1901 г., куда переехала основанная в 1868 г. Рождественская женская проимназия. Современное фото
Гимназия №157 г. Санкт-Петербурга имени принцессы Е. М. Ольденбургской на улице Пролетарской Диктатуры (бывш. Лафонской ул.). Здание постройки 1901 г., куда переехала основанная в 1868 г. Рождественская женская проимназия. Современное фото
Адрес здания приюта
: Санкт-Петербург,
12-я Красноармейская ул., 36-38
Использованы материалы сайтов: wikipedia.org, encblago.lfond.spb.ru, citywalls.ru, humus.livejournal.com, forum.kladoiskatel.ru, rusdeutsch.ru, photoarchive.spb.ru, piteroldbook.ru, trud.ru, blagoros.ru, gym157.spb.ru
Петр Георгиевич Ольденбургский
Ольденбургский принц Петр Георгиевич (Константин-Фридрих-Петр) (1812-1881), генерал от инфантерии, шеф Стародубского кирасирского его имени полка, сенатор, член Государственного Совета и председатель департамента гражданских и духовных дел, главноуправляющий IV Отделением Собственной Его Величества Канцелярии, почетный опекун и председатель С.-Петербургского Опекунского Совета, главный начальник женских учебных заведений Ведомства Императрицы Марии, попечитель Императорского Училища Правоведения С.-Петербургского Коммерческого Училища, Императорского Александровского Лицея, почетный член различных ученых и благотворительных обществ, председатель Российского Общества международного права, попечитель Киевского дома призрения бедных, покровитель Глазной лечебницы.
Принц П. Г. Ольденбургский род. 14 августа 1812 г. в Ярославле, ум. 2 мая 1881 г. в Петербурге. За несколько дней до Бородинской битвы у принца Георгия Петровича Ольденбургского и супруги его великой княгини Екатерины Павловны в Ярославле родился сын, названный при крещении Константин-Фридрих-Петр, известный впоследствии в России под именем принца Петра Георгиевича. Четырех месяцев от рождения принц лишился отца и был перевезен к бабке своей, императрице Марии Феодоровне, супруге императора Павла I, а затем, когда Екатерина Павловна вступила в новый брак с наследным принцем Виртембергским, он последовал за своей матерью в Штутгарт. На восьмом году от роду он лишился матери и был по ее желанию, высказанному принцессой перед кончиной, отвезен в Ольденбург к деду своему, герцогу Ольденбургскому Петру-Фридриху-Людвигу, где и получил дальнейшее воспитание вместе со старшим своим братом принцем Фридрихом-Павлом-Александром. В круг наук, которые должен был проходит принц, были между прочим включены древние и новые языки, геометрия, география, а также и русский язык. В последнее время пребывания своего в Ольденбурге принц с особенной любовью занимался юридическими науками и логикой под руководством Христиана Рунде. В 1829 г. по Адрианопольскому миру Греция получила политическую самостоятельность и кандидатом на греческий престол некоторые дипломаты того времен и называли принца П. Г. Ольденбургского.
В конце 1830 г. император Николай I вызвал принца на русскую службу. 1 декабря 1830 г. принц прибыл в Петербург, был встречен очень радушно императором и зачислен на действительную службу в лейб-гвардии Преображенский полк. За время пятилетней службы своей в полку принц сначала командовал 2-м батальоном, а затем (временно) и полком, и за отличие по службе 6 августа 1832 г. был произведен в генерал-майоры. а 6 декабря 1834 г. в генерал-лейтенанты. С ранних лет отличавшийся высоко развитым чувством гуманности, принц Ольденбургский выказал свое доброе сердце и в качестве офицера полка: он обратил внимание на горькую участь солдатских детей, в большинстве случаев остававшихся без всякого образования. По его почину в Преображенском полку была устроена школа и он принял ее под свой ближайший надзор; наряду с обучением грамоте в этой школе было обращено также внимание и на нравственную сторону обучаемых. Это был первый опыт, который впоследствии успешно был применен и в других полках. Немало приложил стараний принц и для улучшения солдатского быта в гигиеническом отношении.
12 марта 1835 г. принц был назначен членом совета военно-учебных заведений, а в мае следующего года временно исправлял обязанности и начальника военно-учебных заведений.
Между тем, принц не покидал забот и об образовании и продолжал заниматься литературой (между прочим, принц перевел в 1834 г. на французский язык "Пиковую даму" Пушкина), историей, естественными науками и в особенности науками юридическими (под руководством К. И. Арсеньева). В 1834 г. принц оставил военную службу. Поводом к переходу принца Петра Георгиевича из военной службы в гражданскую был следующий случай, обстоятельно рассказанный им статс-секретарю Половцову, со слов коего он нами здесь и помещается. Во время службы его в Преображенском полку принцу пришлось, по служебной обязанности, присутствовать при том, как женщина была подвергнута телесному наказанию и прогнана сквозь строй, причем на обнаженные ее плечи были наносимы солдатами палочные удары. Возмущенный такой картиной, принц П. Г. с места экзекуции поехал к тогдашнему министру внутренних дел графу Блудову и заявил ему, что он никогда более не примет участия в распоряжениях по приведению в исполнение подобного наказания, не существовавшего ни у какого сколько-нибудь просвещенного народа, а потому просил гр. Блудова доложить Государю Императору его просьбу об увольнении от военной службы. Согласно такому ходатайству принц назначен был членом консультации при министре юстиции, а вслед за тем (23 апреля 1834 г.) сенатором присутствующим в первый департамент Правительствующего Сената. Это новое назначение принца, доставив ему возможность - как он сам выразился - вникнуть ближайшим образом в порядок и ход гражданского делопроизводства, скоро привело принца к убеждению в недостаточно удовлетворительной постановке у нас дела юридического образования и в необходимости высшего учебного заведения специально юридического. Принц был убежден, что существовавшие высшие учебные заведения не удовлетворяли насущной потребности правительства - иметь в судебном ведомстве чиновников с солидным юридическим образованием и специально подготовленных к практической юридической деятельности. Идя навстречу этой давно назревшей потребности, принц подробно разработал проект нового "Училища Правоведения" и поднес его на благоусмотрение государя, с присовокуплением обещания пожертвовать сумму, необходимую на приобретение дома и первоначальное обзаведение училища. Письмо принца, от 26 октября 1834 г., заключавшее упомянутый проект, было передано государем Сперанскому, с надписью: "благородные чувства принца достойны уважения. Прошу, прочитав, переговорить с ним и мне сообщить, как ваши замечания, так и то, что вами с принцем условлено будет". 29 мая 1835 г. в Государственном Совете были уже рассмотрены и утверждены выработанные принцем, совместно со Сперанским, проект и штаты училища Правоведения, и на третий день последовал Высочайший рескрипт, коим принцу вверялось устройство училища. К концу ноября того же 1835 г. купленное на средства принца здание (на углу Фонтанки и Сергиевской ул.) было переделано и приспособлено для открытия в нем училища (при этом приобретение здания и его приспособление и обзаведение обошлись принцу более, чем в 1 миллион рублей).
5 декабря 1835 г. последовало торжественное, в присутствии государя-императора, открытие училища. В тот же день Высочайшим рескриптом принц был утвержден в звании попечителя училища и пожалован кавалером ордена св. Владимира 2 степени. С момента учреждения училища до самой смерти своей, в течение почти полувека, принц не покидал самых сердечных забот об этом учреждении. Не говоря о том, что он в значительной степени руководил общим ходом дел училища, он вникал нередко в мелкие детали, зорко следил за воспитанниками училища, спешил к ним на помощь и по окончании ими курса; словом, училище и его питомцы всегда находили в принце щедрую и нравственную, и материальную поддержку.
6 декабря 1836 г. принцу повелено было присутствовать в Государственном Совете, в департаменте гражданских и духовных дел, с правом занимать должность председателя, в его отсутствие.
25 февраля 1842 г. принцу Высочайше было повелено быть председателем упомянутого департамента, и в этом звании принц принимал деятельное участие в реформах 1860-х годов, именно в реформе крестьянской и судебной. В апреле 1837 года принц вступил в брак с дочерью герцога Нассауского, Вильгельма, принцессой Терезией-Вильгельминой-Шарлоттой. В следующем году принц, за многочисленными личными и служебными занятиями, просил об увольнении его от присутствования в Сенате, и просьба эта 17 февраля 1838 г. была уважена.
30 сентября 1839 г. принц был Высочайше назначен почетным опекуном в С.-Петербургском Опекунском Совете и членом Советов Воспитательного Общества благородных девиц и училища ордена св. Екатерины.
14 октября того же года ему было поручено управление С.-Петербургской Мариинской больницей для бедных.
Это новое назначение, введя принца в управление Ведомства Императрицы Марии, было не только началом новой эры в жизни принца, но и в истории этого ведомства. На этом поприще принц выказал столько энергии, трудолюбия и чувств высокого человеколюбия, что имя его останется неизгладимым в истории потянутого ведомства и в особенности в деле насаждения и развития у нас женских учебных заведений. Деятельность принца приняла более широкие размеры с 1844 г., когда ему было поручено исполнять должность Председательствующего в С.-Петербургском Опекунском Совете. Ввиду значительных размеров, коих достигло к тому времени постепенное увеличение у нас числа женских уч. заведений, существовавший доселе надзор за развитием их оказывался недостаточным, как недостаточно удовлетворительной сказалась и сторона административная; к тому же, вследствие изменившихся общественных условий, самые уставы женских учебных заведений нуждались в пересмотре. Для удовлетворения этих нужд в 1844 г. был образован под председательством принца Ольденбургского комитет, который к маю того же года окончил свои занятия, выработав разряды, штаты и программы. По предложению этого же комитета при IV Отделении Собственной Его Величества Канцелярии был учрежден тогда же (30 декабря 1844 г.). Учебный Комитет, как центральное управление по учебной части в женских учебных заведениях; а с 1 января 1845 г. был учрежден, в целях более единообразного направления всего строя управления женскими училищами, особый Главный Совет, открывший свои действия под председательством принца Ольденбургского и долгое время игравший роль как бы особого министерства женского образования в России; в 1851 г. принц был назначен председателем Учебного Комитета, и таким образом постепенно стал во главе женского воспитания и образования. В своей деятельности принц не ограничивался улучшениями административной стороны в управлении вверенного ему ведомства, но заботился и о дальнейшем и более широком развитии учебного дела и шел всегда на встречу нуждам подведомственных ему учебных заведений. Из трудов и записок принца следует упомянуть составленную им в 1851 г. и вскоре осуществленную записку о преподавании гимнастики; затем "Наставление для образования воспитанниц женских учебных заведений" (1852 г.); наставление это было Высочайше утверждено, причем Государь на подлинном написал: "прекрасно, и душевно благодарю за полезный труд".
В 1855 г. Главный Совет, под председательством принца, выработал устав женских учебных заведений, который и был 30 авг. 1855 г. Высочайше утвержден. 19 апреля 1858 г. по мысли и указаниям императрицы Марии Александровны и при деятельном содействии принца Ольденбургского было открыто в России первое семиклассное для приходящих девиц женское училище, наименованное Мариинским, попечителем которого был назначен принц. Ввиду горячего сочувствия новому училищу со стороны общества, принц в том же году, с Высочайшего разрешения, открыл в Петербурге еще несколько народных училищ. 26 февраля 1859 г. принцем были утверждены "Правила внутреннего порядка Мариинского женского училища", в которых вполне отразились те гуманные идеи, коих всегдашним носителем был принц. Вслед за открытием в Петербурге женских гимназий по образцу Мариинского училища были вскоре открыты народные же учебные заведения и в провинции; к 1883 г. их насчитывалось уже до тридцати. Между тем 12 августа 1860 г. был Высочайше утвержден проект Положения о главном управлении учреждений Императрицы Марии; согласно Положению, главное управление этими учреждениями сосредоточивалось в IV отделении Собственной Его Величества канцелярии; отделение это вверялось главноуправляющему, который вместе с тем должен был быть и председателем Главного Совета женских учебных заведений и С.-Петербургского опекунского совета. Государь назначил главноуправляющим принца П. Г. Ольденбургского и изволил утвердить проект, с тем, чтобы на положении и указе выставлено было: "Тверь, 14 августа, т. е. день рождения принца Ольденбургского". Особое благоволение Государя к трудам принца, выразившееся в данном случае, сопровождало дальнейшие шаги принца в его управлении ведомством Императрицы Марии; так 5 мая 1864 г. по случаю столетнего юбилея воспитательного общества благородных девиц в Высочайшем рескрипте на имя принца было, между прочим сказано: "звание главноуправляющего было лишь справедливым признанием двадцатилетних ваших заслуг ко благу заведений, состоящих под непосредственным Вашим покровительством". Одновременно с устройством первых открытых женских училищ (гимназий) принц озаботился о широких преобразованиях по учебной и воспитательной частям в закрытых женских институтах; в целях преобразований принц провел два важных мероприятия: одно касалось изменений в учебном плане, другое было направлено к ослаблению затворнического характера закрытых учебных заведений.
Введение преобразований и правильно-организованного семилетнего образовательного курса обеспечило дальнейшее свободное развитие общего женского образования в России. Впрочем, внимание принца привлекала к себе не только участь средних женских учебных заведений: он прилагал немало стараний и на развитие высшего специального, художественного и профессионального женского образования в России. Так, еще в 1844 г. под председательством принца были разработаны правила и устав для двухлетних педагогических курсов при Александровских женских училищах в Петербурге и Москве; кроме того, были преобразованы теоретический и практический курсы кандидаток при обоих столичных сиротских институтах. Наконец, ввиду быстрого распространения женских гимназий и недостатка в хорошо подготовленных учительницах в 1863 г. были основаны педагогические курсы, а в 1871 г. для подготовки учительниц французского языка, по мысли принца и его почину, был учрежден при Николаевском сиротском институте французский класс с двухгодичным курсом для воспитанниц института, окончивших курс с первыми наградами.
Большое внимание обратил принц и на улучшение музыкального образования воспитанниц, устроив при некоторых институтах специальные музыкальные курсы.
В деле "профессионального" женского образования было сделано принцем также немало. При нем были отчасти преобразованы, отчасти вновь учреждены специальные школы и курсы при многих больницах и родовспомогательных заведениях ведомства Императрицы Марии, рукодельни, ремесленные школы; его же инициативе принадлежит открытие при контрольной экспедиции IV Отделения Собственной Его Величества канцелярии практического курса счетоводства для девиц, уже получивших среднее образование.
Не упускал из виду принц и нужд начального образования: им было произведено немало улучшений в учебном курсе детских приютов, а в 1864 г. была учреждена учительская семинария, при С.-Петербургском воспитательном доме и открыты 20 начальных школ в округах его; число школ, равно как и число приютов, постепенно увеличивалось. (Между прочим, 10 марта 1867 г. принц Ольденбургский с Высочайшего разрешения открыл в Петербурге на собственные средства детский приют на 100 детей под наименованием "Приют в память Екатерины и Марии", с 1871 г. переименованный в "Детский приют Екатерины, Марии и Георгия". Кроме того, многими улучшениями и преобразованиями обязано принцу и ремесленное училище при Московском воспитательном доме, устав и штаты коего в 1868 г. были вновь разработаны и самое училище было переименовано в Императорское Московское техническое училище. Результаты реформ не замедлили скоро сказаться: экспонаты училища привлекали общее внимание на русских и иностранных выставках и самая система преподавания не осталась без заимствования со стороны иноземных школ, напр. американских. Вообще должно заметить, что постановка учебно-воспитательного дела в ведомстве, вверенном принцу, многими сторонами превосходила постановку того же дела за границей, и иностранцы не раз не только давали самые лестные отзывы о принятых у нас методах, но и применяли их у себя.
Успешное развитие и процветание школьного дела в учреждениях, подведомственных принцу, объясняется не только выдающимися административными способностями его высочества, его тактом, уменьем выбирать лиц и неослабной энергией, но и той горячей любовью к юношеству, которой было согрето его сердечное попечение о судьбе и преуспеянии учебных заведений, ему вверенных, и об их питомцах. Деятельность принца по женскому воспитанию и образованию так охарактеризована в исторической записке, составленной в 1883 г. по случаю исполнившегося в том году двадцатипятилетия С.-Петербургских женских гимназий: "Душей и вершителем всех царственных начинаний относительно наших учебных заведений был принц П. Г. Ольденбургский. Его Высочество всецело посвятил себя заботам о благе вверенных его управлению и ближайшему наблюдению благотворительных и воспитательно-учебных учреждений императрицы Марии. Многолетняя и неутомимая деятельность его по созданию новых и преобразованию прежних женских учебных заведений в воспитательно-учебном и хозяйственном отношениях, деятельность твердо и спокойно совершавшаяся в стройной и последовательной системе, вне всяких сторонних, временных влияний, но всегда в полном соответствии с действительными требованиями и нуждами новой общественной и государственной жизни, созданной великими делами Царя-Освободителя, подлежит оценке истории... Покойный принц своей неутомимой деятельностью, неусыпной заботливостью и особенно своей личной добротой принес громадную пользу вверенным его попечениям уч. заведениям и особенно женским гимназиям, только что начавшим свое самостоятельное существование. Десятки поколений, прошли через них, унося в своем сердце искреннюю любовь и привязанность к своему Августейшему Покровителю".
Любовь принца к детям выражалась порой в трогательных формах; принц не раз устраивал детям в своем дворце вечера; большой любитель музыки и литературы, принц нередко сочинял кантаты и песенки, которые распевали дети на своих школьных праздниках; с отеческим попечением относился принц к нуждам питомиц, кончивших курс какого-либо подведомственного ему уч. заведения. Многообразная и широкая деятельность принца не исчерпывается его трудами на пользу женского образования в России: принцу были дороги вообще успехи нашего среднего и высшего образования. Выше было отмечено основание принцем Училища Правоведения; вот как отзывается об участии принца к этому своему детищу один из бывших воспитанников Училища: "Принц считал училище чем то своим, родным и близким себе; все свое время, все заботы и помышления отдавал ему. В Училище он приезжал почти всякий день, иногда по несколько раз в день, присутствовал при лекциях в классах, бывал во время рекреаций... иногда приезжал даже ночью... Вообще говоря, навряд ли была такая потребность училищной жизни, которой бы он не видал собственными глазами...
Все это имело чрезвычайно важные последствия: Училище стало на такую ногу, на какой ни стояло ни одно из тогдашних русских училищ, и во многом получило особенный характер. В нем несравненно менее было казенного, формального, рутинного, а зато было что-то, напоминавшее семейство и домашнее житье", и таким по отношению к училищу - говорит биограф Его Высочества - принц оставался до конца своей жизни. В 1840 г. принц был назначен обер-директором С.-Петербургского Коммерческого училища, которое подвергнул коренным реформам. 28 июня 1841 г. был Высочайше утвержден новый устав училища, и с тех пор принц состоял уже попечителем последнего. В том же году принц принял на себя звание президента Императорского Вольного Экономического Общества, а с 1860 г. был его почетным членом; между прочим, за время председательства принца был выработан и новый устав общества.
В 1843 г. был причислен к ведомству учреждений императрицы Марии и Императорский Александровский Лицей и с 6 ноября того же года принцу было вверено главное начальство над Лицеем, на улучшение которого принцем также было положено немало труда.
Ценя русское просвещение и с особым уважением относясь к юриспруденции, принц в 1880 г. создал "Русское общество международного права", открытие которого под его председательством последовало 31 мая того года. В основании его была положена высокогуманная идея - содействовать развитию международного права, как залога культурного процветания и благоденствия общества.
Да и вообще вся обширная деятельность принца Ольденбургского на пользу русского общества есть блестящее выражение и практическое осуществление тех высоких гуменных идей, неизменным носителем коих был Его Высочество; выполнению их способствовала, конечно, и редкая сердечная доброта, которой отличался принц и которая двигала им на поприще благотворительности.
Принц Ольденбургский был один из крупных благотворителей; его средствам и активному попечению было обязано своим возникновением и развитием не одно благотворительное учреждение. Отметим женский институт принцессы Терезии Ольденбургской; Приют Его Высочества принца П. Г. Ольденбургского. Детская больница принца Петра Ольденбургского; упомянутый выше приют в память Екатерины, Марии и Георгия; Свято-Троицкая община сестер милосердия; больницы Обуховская, Мариинская, Петропавловская и др.; Воспитательный Дом и пр. Не говоря о серьезных преобразованиях и улучшениях, введенных принцем в ряд названных учреждений, Его Высочество жертвовал на преуспеяние их значительные суммы из собственных средств. Энергия принца не покидала его до последних дней. Уже маститый старец, справивший пятидесятилетний юбилей своей государственной службы, удрученный недугами и не могший уже без посторонней помощи подниматься по лестницам, принц продолжал посещать вверенные ему учреждения, заниматься текущими делами и живо интересоваться всем, что подлежало его ведению.
Вечером 2 мая 1881 года принц П. Г. Ольденбургский скончался от скоротечного воспаления легких. 8 мая состоялось торжественное погребение его на кладбище Сергиевой пустыни. В 1889 г. на Литейном проспекте перед зданием Мариинской больницы был воздвигнут в честь принца Ольденбургского памятник с надписью: "Просвещенному благотворителю".
В. Гласко.
{Словарь Половцова}
Использованы материалы сайта http://www.biografija.ru/show
Далее читайте:
Ольденбургский Александр Петрович (1844-1932), сын Петра Георгиевича.
Четверухин Г.Н., к.и.н. (Кострома). Миротворческая деятельность принца П.Г. Ольденбургского в правление императора Александра II (1870 – начало 1880-х гг.) . I Романовские чтения. История Российской государственности и династия Романовых: актуальные проблемы изучения . Кострома. 29-30 мая 2008 года.
Сокращения (в том числе краткая расшифровка аббревиатур).
Литература:
А. Папков: "Жизнь и труды принца П. Г. Ольденбургского", СПб. 1885; Ю. Шрейр: "Пятидесятилетний юбилей принца П. Г. Ольденбургского", СПб. 1881; "Юбилей е. и. в. пр. П. Г. Ольденбургского" ("Сев. Почта" 1808, № 245); И. Селезнев: "Пятидесятилетие IV Отделения Собственной Е. И. В. Канцелярии", СПб. 1878; "Пятидесятилетний юбилей Имп. Училища Правоведения", СПб. 1886; И. Селезнев: "Историч. очерк Имп. бывшего Царскосельского, ныне Александровского Лицея", СПб. 1861; "Юбилей 25-летнего попечительства над Имп. Александр. Лицеем е. и. в. пр. П. Г. Ольденбургского" ("Русск. Инвалид", 1868, № 310); "Сборник материалов для истории СПб. Коммерческого училища", СПб. 1889, 3 тома; А. Г. Тимофеев: "История СПб. Коммерческого училища", СПб. 1901: "С.-Петербургские Высшие Женские Курсы за 25 лет", СПб. 1903; В. Тимофеев: "50-летие СПб. Николаевского Сиротского института", СПб. 1887; Скачков И. А.: "Краткий истор. очерк детского приюта принца П. Г. Ольденбургского", СПб. 1883 и 1896; С. Маслов: "Историч. Обзор Имп. Моск. Общ. сельск. хоз."; М. 1846; "Двадцатипятилетие СПб. женских гимназий", СПб. 1883; С. С. Татищев: "Император Александр II", СПб. 1903; Корф: "Жизнь гр. Сперанского", СПб. 1861; "Переписка Грота с Плетневым", т. I, II, III; Барсуков: "Жизнь и труды Погодина" (указат.); "Из педагогич. автобиографии Л. Н. Модзалевского", СПб. 1899, стр. 23; "Новости" 1881, № 115, "Голос", 1880, № 337, 1881, №№ 121-127 и др. газеты того же года; "Русский Архив" 1891; "Русская Старина" тт. 29, 30, 31, 37, 43, 77, и др. Энциклопедические Словари. - Стихи принца: "Баллада - Евтерпе и Терпсихора" (1863). Воспоминание о 30-м сент. 1864 г. (1864)".
Принц Александр Петрович Ольденбургский (1844-1932)*
Судьбы представителей российской ветви Ольденбургского герцогского дома неоднократно привлекали внимание как русских, так и немецких историков. В российской историографии наиболее крупным исследованием, специально посвященным этой теме, является монография А.А.Папкова, вышедшая в 1885 году отдельной книгой (1), в германской - труд Рихарда Танцена, напечатанный в 1959-1960 годах в двух томах "Ольденбургского ежегодника"(2).
Первое из этих исследований написано преимущественно по русским источникам, второе - по немецким. Поэтому они не столько дублируют, сколько дополняют друг друга. В обеих работах биографии принцев Ольденбургских в России подробно изложены вплоть до смерти наиболее известного из них - принца Петра Георгиевича (Константина Фридриха Петера) Ольденбургского (1812-1881). В исследовании Р.Танцена (не содержащем ссылок на труд своего русского предшественника) лишь очень краткая IV глава (Bd. 59. S. 36-42) посвящена "третьему поколению" принцев Ольденбургских в России - детям Петра Георгиевича и еще меньше сказано о "последних носителях имени принцев Ольденбургских в России", то есть о четвертом поколении. (Ibid. V.Teil. S. 43-45).
Между тем, сын Петра Георгиевича принц Александр Петрович Ольденбургский был весьма неординарной личностью, и плоды его неутомимой многосторонней деятельности сохранялись много лет спустя после крушения Российской империи, изгнания принцев Ольденбургских из России и предания их имени забвению. А такие его любимые детища, как Петербургский Институт экспериментальной медицины и Гагринский морской курорт продолжают функционировать и поныне. Теперь, на исходе XX столетия, в России вновь возник широкий общественный интерес к административной, благотворительной и просветительной деятельности выдающихся представителей немецкой династии, нашедших в России свою вторую родину и много способствовавших ее процветанию. Сведения о них появляются в энциклопедических справочниках и словарях (3). Публикуются также статьи в журналах и сборниках и популярные работы (4).
Настоящая статья имеет целью охарактеризовать личность и труды принца А.П.Ольденбургского на основании как литературных (главным образом, мемуарных), так и неизданных источников из российских архивов.
Отец Александра Петровича - принц Петр Георгиевич Ольденбургский - был одним из выдающихся представителей высшей российской аристократии. По матери он приходился двоюродным братом императору Александру II, по отцу - двоюродным братом Великому герцогу Николаю Фридриху Петеру, почти полвека (с 1853 по 1900 год) правившему Ольденбургом. Он прославился, прежде всего, на почве государственной благотворительности, здравоохранения и народного просвещения. В 1889 году перед зданием Мариинской больницы на Литейном проспекте в Петербурге Петру Ольденбургскому был воздвигнут памятник с надписью "Просвещенному благотворителю", а в 1912 году, в связи со столетием со дня его рождения часть набережной реки Фонтанки в Петербурге была названа Набережной принца Петра Ольденбургского(5).
Мать Александра Петровича - Терезия Вильгельмина (1815-1871) была дочерью великого герцога фон Нассау. Она постоянно помогала мужу в его благотворительной деятельности.
В семье Петра Георгиевича и Терезии Ольденбургских было 8 детей - 4 сына и 4 дочери. Несмотря на свою принадлежность к высшей российской аристократии, принц Петр Георгиевич и его жена сохраняли лютеранское вероисповедание и детей своих крестили по лютеранскому обряду. При крещении каждый из детей получил по три немецких имени, но вне семейного круга их называли по имени и отчеству, как это принято в России.
Лучшие дня
Александр был четвертым ребенком и вторым сыном в семье, однако жизненные обстоятельства его братьев и сестер сложились таким образом, что именно он стал единственным полноправным наследником и продолжателем рода принцев Ольденбургских в России.
Его старшая сестра Александра Петровна (Alexandra Friederike Wilhelmine, 1838-1900) в 1856 году вышла замуж за Великого князя Николая Николаевича (1831-1891) - родного брата императора Александра II. Их сын - Николай Николаевич-младший (1856-1929) был главнокомандующим Российской армией в начале Первой мировой войны (до августа 1915 г., когда главное командование взял на себя император Николай II). Настроенная глубоко религиозно, Александра Петровна первая из семьи принцев Ольденбургских перешла в православие, а позднее оставила мужа, постриглась в монахини под именем Анастасии и стала игуменьей основанного ею в Киеве Покровского монастыря. Там она и скончалась(6).
Сыновья в семье принцев Ольденбургских получали домашнее образование и готовились к военной службе. В соответствии с порядком, принятым в среде высшей российской аристократии, они записывались в императорскую гвардию и получали первый офицерский чин прапорщика еще при крещении. Ко времени своего совершеннолетия и вступления на действительную военную службу они были уже гвардейскими штаб-офицерами.
Старший брат Александра Петровича - Николай (Nikolaus Friedrich August, 1840-1886) в 21 год в чине полковника командовал лейб-гвардии конно-пионерским эскадроном, а год спустя получил придворное звание флигель-адъютанта и был назначен командиром Изюмского гусарского Наследного принца Прусского полка(7). Перед ним открывалась блестящая военная карьера. Однако весной 1863 г. 23-летний полковник принц Николай Петрович Ольденбургский совершил неожиданный поступок, вызвавший серьезные последствия не только для него самого, но и для всего Ольденбургского дома.
Он вступил в брак с нетитулованной дворянкой 18-летней Марией Ильиничной Булацель. Этот неравный брак, заключенный вопреки воле родителей, был признан морганатическим. Николай Петрович утратил права на родительское наследство. Его дети были лишены права именоваться принцами Ольденбургскими. Все же Великий герцог Ольденбургский отнесся к этому событию менее сурово, чем Российский император. Он пожаловал Марии Булацель графское достоинство, и дочери от этого брака именовались впоследствии графинями Остернбургскими. Российская же военная служба Николая Ольденбургского оборвалась. 22 июня 1863 г. высочайшим приказом он был уволен в отставку "по болезни". Три года спустя, благодаря заступничеству Великого князя Николая Николаевича, женатого на его родной сестре, Н.П. Ольденбургскому было разрешено вернуться на военную службу, но карьера его была непоправимо подорвана. В 1872 г. он получил чин генерал-майора, помогал отцу в его благотворительной деятельности, но так и не смог проявить себя ничем значительным ни на военном, ни на общественном поприще. В 1879 г. он был командирован за границу "для осмотра тамошних лучших больниц и благотворительных учреждений" и больше в Россию не вернулся. Последние годы он провел на острове Мадейра, где лечился от чахотки. Умер в Женеве 20 января 1886 г.
Третий ребенок - дочь Цецилия умерла во младенчестве. Александр Петрович (Alexander Friedrich Konstantin) родился 21 мая (по новому стилю - 2 июня) 1844 года в Санкт-Петербурге, в великолепном дворце, пожалованном в 1830 году императором Николаем I принцу П.Г.Ольденбургскому. Этот дворец, построенный во второй половине XVIII века для известного государственного и общественного деятеля екатерининских времен И.И.Бецкого (1704-1795), был в 1830 г. перестроен и заново оборудован выдающимся архитектором В.П.Стасовым. На протяжении 87 лет он являлся "родным гнездом" обширного семейства принцев Ольденбургских. Выходя тремя фасадами на Набережную Невы, Летний сад и Марсово поле, он и теперь является украшением города. Ныне в нем размещается Санкт-Петербургская академия культуры - высшее учебное заведение, готовящее дипломированных библиотекарей, библиографов, музейных и издательских работников(8).
При крещении Александр был записан прапорщиком в самый привилегированный полк Императорской гвардии - Преображенский, казармы которого размещались на Миллионной улице, как раз между императорским Зимним дворцом и дворцом принцев Ольденбургских. С детства его готовили к военной службе, однако, в семье он получил также разностороннее гуманитарное образование. Его родители вели открытый образ жизни. Во дворце часто давались балы, устраивались домашние концерты и спектакли. Постоянными посетителями дворца были не только представители петербургской знати, но и студенты Александровского лицея и Училища правоведения, попечителем которых был отец Александра - принц П.Г.Ольденбургский. Во дворце была прекрасная библиотека. Позднейшие мемуаристы неизменно отмечали начитанность и энциклопедические познания принца Александра.
Летом семья принцев Ольденбургских жила в летнем дворце на Каменном острове в дельте Невы, приобретенном в 1833 году П.Г.Ольденбургским у князя М.М.Долгорукого. Этот большой дворец, построенный архитектором С.Л.Шустовым, признан шедевром русского деревянного зодчества (описание дворца и жизни в нем принцев Ольденбургских дано в письмах и записках гостя из Ольденбурга - Гюнтера Янсена, посетившего Петербург в 1872 году(9)).
В январе 1868 г. Александр женился на дочери герцога Максимилиана Лейхтенбергского и великой княжны Марии Николаевны (дочери императора Николая I) - Евгении (1845-1925), крещеной по православному обряду. В ноябре родился их единственный сын Петр (Peter Friedrich Georg, 1868-1924).
По служебной лестнице Александр Петрович продвигался чрезвычайно быстро. В 26 лет он уже - командир лейб-гвардии Преображенского полка. К этому времени отчетливо проявились многие противоречивые черты его характера. Он чрезвычайно строг и нередко мелочно требователен к подчиненным. Вместе с тем он так же требователен и к себе. Не дает ни себе, ни другим ни минуты покоя. Чрезвычайно эмоционален и вместе с тем упрям. Вспыльчив, но не злопамятен. Неточное выполнение своего распоряжения воспринимает как личную обиду. Вникает во все мелочи военной подготовки, службы и быта офицеров и солдат. Честолюбив. Не может допустить и мысли, что его полк окажется не самым лучшим на плацпараде, на маневрах и на императорском смотру.
Хотя Гвардейские полки готовили скорее к смотрам и парадам, чем к боевым действиям, во время русско-турецкой войны 1877-1878 гг. Александр II решил двинуть лейб-гвардию на Балканы. Генерал-майор принц Александр Ольденбургский был назначен командиром 1-й гвардейской бригады в составе Преображенского и Семеновского лейб-гвардейских полков. Служивший под его началом Н.А.Епанчин вспоминал, что "Принц А.П.Ольденбургский в течение всего похода вел себя по-спартански; он не имел экипажа, а всегда был верхом, не имел повара и прочих удобств жизни, питался при одном из полков его бригады наравне с офицерами"(10).
Осенью 1877 г. войска под командованием принца Ольденбургского, входившие в состав Западного отряда генерала И.В. Гурко, отличились при взятии Этрополя, в декабре - при труднейшем переходе через заснеженные Балканские перевалы(11). Принц достойно провел всю военную кампанию против турок, был награжден несколькими орденами и золотым оружием, но никаких особенных военных талантов не проявил. Их и трудно было проявить под началом талантливого и властного генерала Гурко, требовавшего от своих подчиненных лишь точного и безукоризненного выполнения его приказаний. По окончании войны принц А.П.Ольденбургский продолжал командовать 1-й гвардейской бригадой, в 1880 г. был назначен командующим 1-й гвардейской пехотной дивизией, расквартированной в Петербурге, и вскоре получил чин генерал-лейтенанта и звание генерал-адъютанта Его Императорского Величества(12).
В 1881 году скончался отец Александра принц Петр Георгиевич Ольденбургский. Еще раньше умерли его младшая сестра Екатерина (1846-1866) и брат Георгий (1848-1871), а самая младшая сестра Тереза в 1879 г. была выдана замуж за младшего брата жены Александра - герцога Георгия Максимилиановича Лейхтенбергского.
В 1882 году младший брат Александра генерал Константин Петрович Ольденбургский (1850-1906), служивший на Кавказе, в точности повторил опрометчивый поступок их старшего брата Николая Петровича: женился морганатическим браком на Агрипине Константиновне, урожденной Джапаридзе, бывшей в первом браке за грузинским князем Тариелом Дадиани. Великий герцог Ольденбургский пожаловал ей титул графини Зарнекау.
С этого времени Александр Петрович Ольденбургский и его супруга Евгения Максимилиановна стали единственными законными владельцами великолепного дворца на берегу Невы, летнего дворца на Каменном острове и вместе с тем унаследовали от П.Г.Ольденбургского многочисленные заботы о благотворительных, медицинских и учебных заведениях, попечителем которых тот состоял. Сохраняя свой высокий военный пост, Александр Петрович в 1881 г. стал "по совместительству" попечителем императорского Училища правоведения, детского приюта принца Ольденбургского и Свято-Троицкой общины сестер милосердия.
Евгения Максимилиановна Ольденбургская стала покровительницей Попечительного комитета о сестрах Красного Креста, председателем Императорского общества поощрения художеств, а от своего отца унаследовала также почетную должность председателя Императорского Минералогического общества.
Общественная деятельность принцессы Е.М.Ольденбургской, несомненно, заслуживает отдельного исследования. Здесь я отмечу только, что Комитет о сестрах Красного Креста (переименованный в 1893 г. в Общину Святой Евгении) развернул широкую издательскую деятельность, наводнив всю Россию художественно оформленными почтовыми конвертами и открытками с репродукциями картин Эрмитажа, Русского музея и Третьяковской галереи. К этой работе были привлечены многие русские художники во главе с А.Н.Бенуа. Про эти открытки говорили: "У них лишь один недостаток - их жаль посылать на почту". Это начинание Е.М.Ольденбургской пережило Октябрьскую революцию. В 1920 г. издательство Общины Св. Евгении было реорганизовано в Комитет популяризации художественных изданий и выпустило несколько прекрасных монографий о художниках, а также путеводителей по Петрограду и его окрестностям(13).
Не менее значительной была деятельность Е.М.Ольденбургской по созданию широкой сети детских художественных школ в Петербурге, его окрестностях и других губерниях России. В 1900-е годы Евгения Максимилиановна была уже тяжело больна, теряла способность самостоятельно передвигаться и жила, главным образом, в своем имении Рамонь недалеко от Воронежа.
В 1885 г. принц А.П.Ольденбургский был назначен командиром Гвардейского корпуса, то есть командующим всей Императорской гвардией. Н.А.Епанчин так вспоминал об этом пике его военной карьеры: "Гвардейским корпусом командовал принц Александр Петрович Ольденбургский; добрый, благородный человек, он отличался порывистым характером, был весьма вспыльчив, но и отходчив. После вспышки, иногда наговорив весьма неприятные и неуместные вещи, принц имел гражданское мужество сознаться в этом и извиниться"(14).
Несколько по иному звучат воспоминания дяди императора Николая II - великого князя Александра Михайловича об этом же периоде службы А.П.Ольденбургского: "Его строгость граничила с сумасбродством. Весть о его приближении во время инспекторских смотров вызывала среди офицерского состава нервные припадки, а на солдат наводила панику. С этой маниакальной строгостью в видимом противоречии находилась его благоговейная преданность наукам. Он оказывал щедрую материальную поддержку всевозможным просветительным и благотворительным начинаниям, а также научным экспедициям и изысканиям. Он покровительствовал молодым, подающим надежду ученым, а они относились снисходительно к его неуравновешенности и чудачествам" (15).
У принца А.П.Ольденбургского из-за его трудного характера было, по-видимому, немало недоброжелателей, и в августе 1889 г. командиром гвардейского корпуса вместо него был назначен генерал-адъютант К.Н.Манзей, "совершенное ничтожество в военном отношении", по отзыву Н.А.Епанчина.
Окончание военной карьеры по сути дела послужило для 45-летнего принца А.П.Ольденбургского началом его главного жизненного поприща, на котором он смог проявить себя гораздо ярче и значительней, чем на военной службе. От отца он унаследовал, в частности, стремление к развитию и совершенствованию здравоохранения в России. Но если Петра Ольденбургского занимала преимущественно практическая сторона дела - он открывал новые больницы и щедро их финансировал, то сын решил, прежде всего, добиться повышения научного уровня медико-биологических исследований в России. С этой целью он на собственные средства, при поддержке государства и с привлечением взносов частных лиц, буквально на пустом месте создал Институт экспериментальной медицины (ИЭМ), не имевший в то время аналогов не только в России, но и в Европе. За образец он принял парижский институт Пастера, но если Пастеровский институт занимался сравнительно узким кругом проблем, то принц Александр решил организовать многопрофильный институт с относительно автономными отделами, разрабатывающими фундаментальные проблемы, выдвигаемые современным развитием мировой медико-биологической науки. Александр Петрович купил обширный участок земли на окраине Петербурга, на Аптекарском острове и начал возводить на нем корпуса будущего института. Одновременно он стал подбирать штаты института из числа самых выдающихся биологов, химиков, физиологов и врачей России. ИЭМ был создан и прекрасно оборудован в необычайно короткий срок. Научный потенциал его ведущих сотрудников был очень высок. Выдающийся физиолог академик Л.А.Орбели вспоминал много лет спустя: "Я так и не знаю, понимал ли он (А.П. Ольденбургский) что-либо в физиологии, но вообще он был просвещенным человеком. В 1890 г. он основал Институт экспериментальной медицины. В этом институте ему захотелось организовать физиологическое отделение. Он узнал (не знаю, кто его в этом отношении просветил), что есть у нас выдающийся физиолог, Иван Петрович Павлов, и он предложил ему сначала стать директором института, а когда от этого Иван Петрович отказался, возглавить физиологический отдел. Тогда этот отдел и был создан. Надо сказать, что это был период, когда Павлов был уже вполне сформировавшимся ученым, и лаборатория при клинике С.П.Боткина не могла уже его удовлетворять"(16). Именно в лабораториях ИЭМ И.П.Павлов провел свои знаменитые исследования по физиологии пищеварения, принесшие ему в 1904 году Нобелевскую премию и всемирное признание.
Не менее интересны воспоминания другого ветерана ИЭМ Д.А.Каменского: "В 1890 году состоялось открытие Института экспериментальной медицины, работа там только начиналась и штатов еще никаких не было. Нештатным был даже директор института В.К.Анреп. В тот год был добыт Кохом туберкулин и на использование и изучение его набросился весь мир. Принц А.П.Ольденбургский командировал Анрепа в Берлин, обязав получить это средство, и был необычайно рад, когда его привезли из-за границы. Принц Ольденбургский вообще желал, чтобы "его" институт был первым в мире, и радовался тому, что первые исследования туберкулина будут проделаны у него в институте"(17).
А.П.Ольденбургский вел постоянную переписку с видными европейскими медиками и биологами (в частности, с Л.Пастером и Р.Вирховом). В получении и изучении иностранной научной литературы ему деятельно помогал личный библиотекарь Теодор Эльсхольц, являвшийся вместе с тем летописцем дома Ольденбургских. Его двухтомный рукописный труд "Aus vergangenen Tagen" ("Из дней минувших"), хранящийся в Отделе рукописей Российской национальной библиотеки в Петербурге еще ждет своего исследователя(18).
Институт экспериментальной медицины на протяжении всего XX века оставался и остается до сих пор одним из ведущих медико-биологических научных учреждений России.
Однако имя его основателя многие годы было предано забвению. Лишь в 1994 году на здании института была укреплена мемориальная доска: "Институт экспериментальной медицины. Основан принцем Александром Петровичем Ольденбургским в 1890 году"(19).
В 1896 году в Прикаспийских степях были обнаружены случаи заболевания чумой. В январе 1897 г. указом Николая II была образована "Особая комиссия для предупреждения занесения чумной заразы и борьбы с нею в случае появления ее в России" под председательством А.П.Ольденбургского. Принц немедленно выехал в Астраханскую губернию и принял там самые строгие санитарные и карантинные меры. Многие высшие чиновники находили эти меры чрезмерными, наносящими ущерб внешней торговле России и ее бюджету (из Астрахани, как известно, экспортировалась икра). Но принц был непреклонен. А главное, принятые им меры достигли цели: очаг эпидемии был быстро локализован и в центральные губернии России чума не проникла. Надо сказать, что А.П.Ольденбургский был неплохо теоретически подготовлен к выполнению этой трудной и опасной миссии: в его архиве сохранились многочисленные выписки, вырезки, заметки, касающиеся эпидемий чумы в Европе, сделанные Т.Эльсхольцем(20).
Министр финансов С.Ю.Витте, председательствовавший в чумной комиссии в отсутствие принца Ольденбургского, вспоминал, как однажды "принц прислал телеграмму с требованием запретить вывоз некоторых товаров из России из-за появления чумы". Комиссия отказала, чтобы не поднимать в Европе переполох, и Николай II с этим согласился. Принц очень обиделся на Витте, но долго сердиться на кого-либо он не умел. Вскоре через министра внутренних дел Д.С.Сипягина он дал понять Витте, что хотел бы помириться с ним. Витте отправился к нему с визитом. Принц "со слезами на глазах говорил, что этот инцидент на него чрезвычайно подействовал, что с тех пор у него болит сердце и что он именно этому инциденту приписывает свою болезнь сердца". Здесь же Витте описывает забавный бытовой эпизод, как нельзя лучше свидетельствующий об экстравагантных чертах характера принца А.П. Ольденбургского. Внезапно, посреди разговора принц выбежал из кабинета и некоторое время спустя вбежал обратно с громким криком: "Проснулась, проснулась!" Оказалось, что его старая нянюшка несколько дней не просыпалась. "И вот, говорит, я пришел туда и закатил ей громадный клистир, и как только я ей сделал клистир, она вскочила и проснулась". Принц Ольденбургский был по этому поводу в весьма хорошем настроении духа, и я расстался с ним в самых дружественных отношениях"(21).
Вторым после Института экспериментальной медицины "любимым детищем" принца А.П.Ольденбургского стал Гагринский климатический курорт. В 1900 г. принц загорелся идеей создать на живописном, но пустынном тогда Кавказском берегу между Сочи и Сухуми благоустроенный, но относительно дешевый курорт, который мог бы успешно конкурировать с роскошными и дорогими курортами Крыма. Он сумел заинтересовать этой идеей и императора Николая II, который указом от 9 июля 1901 г. возложил на принца Ольденбургского заботу о создании Гагринской климатической станции. Принц сам стал руководителем строительных, дорожных, мелиоративных и прочих работ, вникал во все мелочи, вложил в осуществление любимой идеи все свои немалые средства. Но скоро этих денег стало нехватать. Принц добился от императора распоряжения об ежегодном отпуске из Государственного казначейства 150 000 рублей на строительство курорта. В газетах стали появляться статьи, в которых утверждалось, что принц расходует государственные деньги на удовлетворение своих амбиций и причуд. Граф Витте, который в качестве министра финансов был вынужден подписывать государственные ассигновки на нужды курорта, даже утверждал, что Гагринский курорт можно было бы создать намного дешевле, "если бы те деньги, которые ухлопал на это дело из казенного сундука принц А.П.Ольденбургский, были бы даны обыкновенным русским обывателям". По мнению Витте, "вся заслуга принца заключалась в том, что он человек подвижной и обладает таким свойством характера, что когда он пристает к лицам, в том числе иногда лицам, стоящим выше, нежели сам принц, то они соглашаются на выдачу сотен тысяч рублей из казенного сундука, лишь бы только он от них отвязался"(22).
В организации Гагринского курорта постоянную помощь отцу оказывал его сын Петр Александрович, женившийся в 1901 г. на младшей сестре императора Николая II Ольге Александровне. Об этом свидетельствует сохранившаяся переписка Петра Александровича с невестой, а потом женой. 7 мая 1902 г. он писал ей из имения Рамонь под Воронежем: "Вчера был очень серьезный разговор о Гагринских делах. Дела эти так запутаны, что нет слов. Отвечает за них папа и нравственно и денежно. Я считаю себя обязанным их выпутать. [...] Я берусь устроить эти дела, если мне дадут право действовать совершенно самостоятельно". И 30 мая из Гагр: "Дела понемногу распутываются, но вывести их на чистую воду все-таки весьма и весьма сложно"(23).
Как бы то ни было, в 1903 году Гагринский курорт был торжественно открыт и почти 90 лет, вплоть до распада Советского Союза оставался одним из лучших климатических курортов на Черноморском побережье(24).
Очень яркие картины жизни принца А.П.Ольденбургского в Гаграх с неподражаемым народным юмором запечатлел абхазский писатель Фазиль Искандер в своем знаменитом романе "Сандро из Чегема".
Принц Петр Александрович Ольденбургский, женившись на сестре императора Ольге, перешел в православие и получил в подарок от Николая II дворец на Сергиевской улице в Петербурге. Брак этот оказался неудачным. Ольга Александровна много лет добивалась от брата-императора разрешения на развод и, наконец, в 1916 г. добилась его. Это, однако, другая история, и здесь я не буду подробно останавливаться на ней.
Ко времени Первой мировой войны А.П.Ольденбургский имел уже высший военный чин генерала-от-инфантерии, а в мае 1914 г., когда было торжественно отмечено 50-летие его действительной военной службы, получил также титул Его Императорского Высочества, то есть официально был приравнен к царской фамилии. Вскоре после начала войны "Высочайшим приказом от 3-го сентября 1914 года числящийся по гвардейской пехоте, член Государственного Совета и попечитель Императорского училища правоведения, генерал-адъютант, генерал-от-инфантерии Его Императорское Высочество принц Александр Петрович Ольденбургский назначается Верховным начальником санитарной и эвакуационной части"(25).
С назначением на эту, впервые созданную в России должность А.П.Ольденбургский получил чрезвычайно широкие обязанности и полномочия. Ему была подчинена вся военно-медицинская служба в России - полевые и тыловые госпитали со всем их персоналом, санитарные поезда; он отвечал за обеспечение лечебных учреждений медикаментами, продовольствием и необходимым оборудованием, за предупреждение эпидемий, возвращение вылечившихся воинов на фронт.
Материалы о деятельности принца А.П.Ольденбургского на этом посту хранятся в обширном архивном фонде Управления Верховного начальника санитарной и эвакуационной части, хранящемся в Российском государственном военно-историческом архиве (26).
Отчитываясь перед императором за первый год своей деятельности (с сентября 1914 по сентябрь 1915 г.), А.П.Ольденбургский писал: "Вступив в исполнение обязанностей, я счел необходимым прежде всего лично ознакомиться с постановкой вверенного мне дела на местах. С этою целью мной был препринят объезд линии фронта, тылового района и крупнейших центров внутри района, расположенных на пути эвакуации. Впечатление от первых объездов получилось неблагоприятное". Принц сетовал на "чрезвычайное многоначалие, сводившееся фактически к безначалию", на постоянные трения с местными властями, на недостаток медицинского персонала (в Германии, по его данным, на одного врача приходилось 1960 жителей, в России - 5140). Вместе с тем он отмечал большую помощь со стороны Красного Креста и других общественных организаций, огромный наплыв желающих записаться в сестры милосердия. В числе принятых им первочередных мер, А.П.Ольденбургский называл организацию досрочного выпуска врачей из медицинских учебных заведений, что дало фронтовым и тыловым госпиталям дополнительно 3023 врача; привлечение вольнопрактикующих женщин-врачей, создание 357 военно-санитарных поездов. К 1 июля 1915 г. с фронта было эвакуировано около 1571000 раненых и больных, в госпиталях развернуто свыше 597000 коек.
"Почти с самого начала войны, - писал он далее, - наши военно-санитарные поезда стали подвергаться обстрелу бомбами с вражеских аэропланов. В виду этого сделано было распоряжение окрасить крыши всех вагонов военно-санитарных поездов в белый цвет с изображением Красного Креста. На основании постановлений Женевской конвенции эти изображения должны были оградить поезда от нападений. Действительность показала обратное: Красный Крест стал служить для неприятельских летчиков прицельной точкой и сбрасывание бомб на поезда участилось. Поэтому 2 мая я приказал немедленно закрасить все крыши санитарных вагонов в защитный цвет"(27).
Принц полностью переориентировал Гагринский курорт и другие курорты России на военно-медицинские нужды. Помимо того, что там были организованы лечебные учреждения для выздоравливающих, там же было налажено выращивание лекарственных растений.
Официальные архивные документы о деятельности принца А.П.Ольденбургского в должности Верховного начальника санитарной и эвакуационной части могут быть дополнены, а отчасти и прокорректированы свидетельствами мемуаристов. Так, А.А.Поливанов, состоявший до мая 1915 г. при принце Ольденбургском, а в июне того же года назначенный военным министром, упрекал своего бывшего начальника в том, что он в начале войны переоценил эффективность защиты от газов при помощи "противогазовых повязок", состоявших из нескольких слоев марли, пропитанных определенными составами, и задержал тем самым разработку более эффективных средств - противогазов. "Принц А.П.Ольденбургский,- вспоминал впоследствии Поливанов, - схватился за это новое дело (изготовление повязок) со свойственной ему исключительной энергией, но затем, как всегда и во всех его новых начинаниях, вместо того, чтобы внимательно следить за применением нового средства и на основании опыта нашего и наших союзников вводить в него подсказываемые практикой улучшения, упрямо остановился на своем, раздражался, когда узнавал, что в общественных организациях вырабатываются другие типы противогазовых средств, и, в конце концов, из армии понеслись заявления, что снабжение ее противогазовыми средствами неудовлетворительно, особливо сравнивая таковые же средства, появившиеся у германцев. Стремление принца с неукротимой быстротой браться за новые начинания выходило за пределы области военно-санитарного и эвакуационного дела, которым он вообще руководил без системы и без ровной настойчивости, а посредством случайных взрывов своей, исключительной для его возраста энергии"(28). В начале 1916 г. между А.П. Ольденбургским и военным министром Поливановым возник открытый конфликт из-за того, что принц неожиданно увлекся не защитой от ядовитых газов, что входило в его обязанности, а вопросами их изготовления, что полностью входило в компетенцию военного министра. Пришлось вмешаться императору и решить этот вопрос в пользу Поливанова(29).
Так или иначе, но мемуаристы и историки согласны в том, что военно-медицинская служба в русской армии во время Первой мировой войны была хорошо организована. Этим, а не только пресловутой "суровостью" принца или близостью его к Императорскому дому можно объяснить высокий его авторитет не только в армейских верхах, но и у простых солдат и офицеров
Когда в феврале 1917 г. в Петрограде вспыхнула революция, принц А.П.Ольденбургский оказался среди тех генералов, кто убеждал Николая II отречься от престола(30). Он же одним из первых объявил о своей поддержке Временного правительства. Сохранилась подлинная телеграмма, которую А.П.Ольденбургский отправил 9(22) марта 1917 г. из Могилева, где находилась Ставка Верховного главнокомандования, в Петроград своему сыну Петру: "Послал [Г.Е.] Львову следующую депешу: "От имени жены моей и моего заявляю полное желание и готовность энергично поддерживать Временное правительство во славу и на благо нашей дорогой Родины". Сообщи маме. Принц Александр Ольденбургский"(31).
Это были едва ли не единственные случаи, когда А.П.Ольденбургский открыто высказался по злободневным политическим вопросам. До того он предпочитал, как и его отец, держаться в стороне как от внешней, так и от внутренней политики, занимаясь, помимо военной деятельности, преимущественно делами благотворительности, здравоохранения, народного образования.
Однако, отношения с новой властью у А.П.Ольденбургского все же, по-видимому, не сложились. Он должен был оставить пост Верховного начальника санитарной и эвакуационной части, продал Временному правительству России свой дворец на берегу Невы и незадолго до Октябрьского переворота уехал в Финляндию. Туда к нему из Рамони приехали жена и сын. Оттуда они переехали во Францию, навсегда покинув Россию.
С этого начинается заключительная и весьма печальная глава в истории российской ветви принцев Ольденбургских. Александр Петрович с женой и сыном поселились на Атлантическом побережье Франции, недалеко от испанской границы. Сведения об их жизни там очень скудны. Неожиданным источником оказался мемуарный очерк И.А.Бунина, написанный в 1931 г. и озаглавленный "Его Высочество"(32). Бунин рассказывает, что он познакомился с Петром Александровичем Ольденбургским в 1921 г. в Париже. "Меня удивил его рост, - пишет Бунин, - его худоба, [...] его череп, совсем голый, маленький, породистый до явных признаков вырождения". П.А.Ольденбургский подарил Бунину книжечку своих рассказов "Сон", изданную им в Париже под псевдонимом "Петр Александров". "Он писал о "золотых" народных сердцах, внезапно прозревающих после дурмана революции и страстно отдающихся Христу. [...] Писал горячо, лирически, но совсем неумело, наивно. [...] Однажды на одном большом вечере, где большинство гостей были старые революционеры, он, слушая их оживленную беседу, совершенно искренно воскликнул: "Ах, какие вы все милые, прелестные люди! И как грустно, что Коля [Николай II] никогда не бывал на подобных вечерах! Всё, всё было бы иначе, если бы вы с ним знали друг друга!" [...] "Некоторые, - пишет Бунин, - называли его просто "ненормальным". Всё так, но ведь и святые, блаженные были "ненормальны"". Бунин цитирует далее сохранившиеся у него письма Петра Ольденбургского 1921-1922 годов: "Я поселился в окрестностях Байонны, - писал П.А.Ольденбургский И.А.Бунину, - на собственной маленькой ферме, занимаюсь хозяйством, завел корову, кур, кроликов, копаюсь в саду и в огороде. По субботам езжу к родителям, которые живут неподалеку, в окрестностях Сен Жан де Люз".
Бунин упоминает о вторичной женитьбе П.А.Ольденбургского, о его скоротечной чахотке, о смерти в санатории в Антибе на Французской Ривьере. Его воспоминания ни в чем не противоречат сведениям, известным нам из других источников. В Российской государственной библиотеке обнаружилась и упомянутая Буниным маленькая книжечка рассказов. Ее содержание вполне соответствует той характеристике, которую дает ей Бунин(33).
Петр Ольденбургский тяжело болел и умер раньше своих родителей. Через год, в ночь на 4 мая 1925 г. в Биаррице умерла его мать. Александр Петрович пережил жену на семь лет. В парижской русской газете "Последние новости" № 4187 от 8 сентября 1932 г. появилось краткое объявление: "Скончался принц А.П.Ольденбургский. Биарриц, 7 сентября (Гавас). 6-го сентября на 89 году жизни скончался принц Александр Петрович Ольденбургский". Более пространный некролог за подписью "Ч." был помещен в газете "Возрождение" за 7 сентября.
Так пресеклась прямая российская линия Ольденбургского герцогского дома. Изучение биографий потомков графов Остернбург и Зарнекау осталось за пределами данного исследования.
Примечания
(*) Материалы этой статьи опубликованы в Германии на немецком языке: Tschernych V.A. Die dritte Generation des russischer Linie des Hauses Oldenburg. Prinz Alexander Petrowitsch (1844-1932) // Das Haus Oldenburg in Ru?land. Oldenburg, 2000. S. 171-188 (Oldenburger Forschungen. Neue Folge. Band. 11).
(1) Папков А.А. Жизнь и труды принца П.Г.Ольденбургского. СПб., 1885.
(2) Tantzen R. Das Schicksal des Hauses Oldenburg in Ru?land // Oldenburger Jahrbuch. Bd. 58. 1959. S. 113-195; Bd. 59. 1960. S. 1-54.
(3) Назову для примера: Гребельский П.Х. Герцоги и принцы Ольденбургские // Дворянские роды Российской империи. Т.2. Спб.,1995. С.18-21; [Черных В.А.]. Ольденбургский Георгий Петрович // Тверская область. Энциклопедический словарь. Тверь, 1994. С. 183 (Без подписи).
(4) Например: Анненкова Э.А., Голиков Ю.П. Русские Ольденбургские и их дворцы. СПб.,1997; Степанец К.В. Просвещенные благотворители Ольденбургские: вклад семьи в развитие медицинских и учебных заведений. // Петербургские чтения - 97. СПб., 1998. С. 118-122; Яковлева Е.Б. Благотворительная деятельность семьи Ольденбургских в России // Немцы и развитие образования в России. СПб., 1998. С. 182-186; Голиков Ю.П. Принц А.П.Ольденбургский - организатор и попечитель Института экспериментальной медицины // Немцы в России: проблемы культурного взаимодействия. СПб., 1998. С. 279-286.
(5) См.: Iskjul S.N. Prinz Peter Georgiewitch von Oldenburg gilt als einer der grossen russischen Philantropen // Das Haus Oldenburg in Ru?land. Oldenburg, 2000. S. 157-170 (Oldenburger Forschungen. Neue Folge. Band. 11).
(6) Данилов Ю.Н. Великий князь Николай Николаевич. Париж, 1930. С.20-21; Киев. Энциклопедический справочник. Киев. 1986. С.492.
(7) Полный послужной список флигель-адъютанта полковника принца [Николая] Ольденбургского. Составлен 1 января 1863 г. // Российский государственный военно-исторический архив (далее: РГВИА). Ф. 400. Оп. 9. Д. 525. Л. 13-18.
(8) Баженова Е.М. Дом И.И.Бецкова на Марсовом поле // Сборник материалов, посвященных 75-летию Петербургской Государственной академии культуры. СПб., 1993. С. 154-163.
(9) Schieckel H. Briefe und Aufzeichnung des oldenburgisches Vortragenden Rates Gunter Jansen uber seine Dienstreise nach Petersburg im Mai 1872 // Geschichte in der Region. Zum 65. Geburtstag von Heinrich Schmidt. Hannover, 1993. S. 351-376.
(10) Епанчин Н.А. На службе трех императоров. М.,1996. С.96-97.
(11) Епанчин Н.А. Очерк действий Западного отряда Генерал-адъютанта Гурко. Ч. 1-3. СПб., 1889-1890.
(12) Краткая записка о службе генерал-лейтенанта принца Ольденбургского // РГВИА. Ф. 400. Оп. 17. Д. 1066. Л. 3-4.
(13) Снегурова М. Община св. Евгении // Наше наследие. 1991. № 3. С. 27-33. См. также: Бенуа А. Мои воспоминания. Т. 2. М., 1990; Третьяков В.П. Открытые письма Серебряного века. СПб., 2000.
(14) Епанчин Н.А. На службе трех императоров. М.,1996. С. 170.
(15) Александр Михайлович, Великий князь. Книга воспоминаний. М., 1991. С. 127-128.
(16) Орбели Л.А. Воспоминания. М.; Л., 1966. С. 49.
(17) И.П.Павлов в воспоминаниях современников. Л., 1967. С. 104.
(18) Отдел рукописей Российской национальной библиотеки (далее: ОР РНБ). Ф. 543. № 39, 40.
(19) См. Анненкова Э., Голиков Ю. Указ. соч. С. 168.
(20) ОР РНБ. Ф. 543. № 45.
(21) Витте С.Ю. Воспоминания. М., 1960. Т. 2. С. 565-567.
(22) Там же. С. 564.
(23) Государственный архив Российской федерации. Ф. 643. Оп. 1. Д. З0. Л. 20-21, 31.
(24) См.: Гагры. Климатическая станция на Черноморском побережье. СПб.,1905; Пачулиа В.П. Гагра. Очерки истории города и курорта. Сухуми, 1979.
(26) РГВИА. Ф. 2018. 1060 единиц хранения.
(27) Там же. Оп. 1. Д. 950.
(28) Поливанов А.А. Из дневников и воспоминаний. 1907-1916. Т. 1 М., 1924. С. 164-165.
(29) Там же. С.166-167. Ср:. РГВИА. Ф.2018. Оп. 1. Д. 969. Л. 19-24.
(30) Падение царского режима. М.; Л., 1926. Т. 6. С. 411-412.
(31) РГВИА. Ф. 2018. Оп. 1. Д. 98. Л. 168.
(32) Бунин И.А. Воспоминания. Париж, 1950. С. 130-140.
(33) Петр Александров. Сон. Париж. Типография "Земгора". 216, Bd Raspail. 1921. 46 С.
господину Черных
paata ketsbaia
07.08.2006 10:35:03
С большим удовольствием прочитал про Ольденбургских Очень интересный труд Хочу попросить о помощи Я родом из Гагры Уже полвека в нашеи семье хранится уникальны рог (бронзовая подставка-композиция с 3-х литровым рогом)От деда мне известно что рог пренодлежал Ольденбургским и был изготовлен по заказу Александр Петровича в двух или трех эгземплярах а после революции один из видных абхазских бопьшевиков нестор Лакоба пытался его похитеть но моему прадеду удалось его спрятать В 30-40 годы рог упорно искали по приказу Берия прадед снова спас рог но заплатил за это жизню Такои же рог хронится в одном из дрезденских музеев (название музея и фото утеряны во время воины в абхазии)Прошу Вас подскожите где можно найти информацию об этом роге или об интересных вещах и раритетах пренадлежаших Ольденбургским
Заранее благодарю
С увожением Паата Кецбаиа [email protected]
 |
 |
|
 |
|
 |
На восьмом году от роду он лишился матери и был по её желанию, высказанному принцессой перед кончиной, отвезен в Ольденбург к деду своему, герцогу Ольденбургскому Петру-Фридриху-Людвигу, где и получил дальнейшее воспитание вместе со старшим своим братом принцем Фридрихом-Павлом-Александром. В круг наук, которые должен был проходить принц, были между прочим включены древние и новые языки, геометрия, география, а также и русский язык. В последнее время пребывания своего в Ольденбурге принц с особенной любовью занимался юридическими науками и логикой под руководством Христиана Рунде. В 1829 году по Адрианопольскому миру Греция получила политическую самостоятельность и кандидатом на греческий престол некоторые дипломаты того времен и называли принца Ольденбургского. Но в конце 1830 года император Николай I вызвал принца (своего племянника) на русскую службу.
В 1834 году оставил военную службу. Поводом к переходу на гражданскую службу был следующий случай (известный со слов Половцова , которому рассказывал сам принц). Во время службы его в Преображенском полку принцу пришлось, по служебной обязанности, присутствовать при телесном наказани женщины, причём на обнаженные её плечи были наносимы солдатами палочные удары. Возмущенный такой картиной, принц с места экзекуции поехал к тогдашнему министру внутренних дел графу Блудову и заявил ему, что он никогда более не примет участия в распоряжениях по приведению в исполнение подобного наказания, не существовавшего ни у какого сколько-нибудь просвещённого народа, а потому просил доложить Императору его просьбу об отставке. Принц назначен был членом консультации при министре юстиции, а вслед за тем (23 апреля 1834) сенатором.
Императорское училище правоведения
На новом месте принц быстро убедился, что России остро не хватает чиновников с юридическим образованием, и что для этого необходимо специальное юридическое высшее учебное заведение. Принц подробно разработал проект нового «Училища Правоведения» и поднес его на благоусмотрение государя, с обещанием пожертвовать сумму, необходимую на приобретение дома и первоначальное обзаведение училища. Письмо принца с проектом, от 26 октября 1834 года , государь передал М. М. Сперанскому , с надписью:
 29 мая 1835 года в Государственном Совете были уже рассмотрены и утверждены выработанные принцем, совместно со Сперанским , проект и штаты училища Правоведения, и на третий день последовал Высочайший рескрипт , коим принцу вверялось устройство училища. К концу ноября того же 1835 года купленное на средства принца здание на углу Фонтанки и Сергиевской улицы (ныне улица Чайковского) было переделано и приспособлено для открытия в нём училища (при этом приобретение здания и его приспособление и обзаведение обошлись принцу более чем в 1 миллион рублей). 5 декабря 1835 года последовало торжественное, в присутствии государя-императора, открытие училища. В тот же день Высочайшим рескриптом принц был утверждён в звании попечителя училища и пожалован кавалером ордена св. Владимира 2 степени. С момента учреждения училища до самой смерти своей, в течение почти полувека, принц не покидал самых сердечных забот об этом учреждении.
29 мая 1835 года в Государственном Совете были уже рассмотрены и утверждены выработанные принцем, совместно со Сперанским , проект и штаты училища Правоведения, и на третий день последовал Высочайший рескрипт , коим принцу вверялось устройство училища. К концу ноября того же 1835 года купленное на средства принца здание на углу Фонтанки и Сергиевской улицы (ныне улица Чайковского) было переделано и приспособлено для открытия в нём училища (при этом приобретение здания и его приспособление и обзаведение обошлись принцу более чем в 1 миллион рублей). 5 декабря 1835 года последовало торжественное, в присутствии государя-императора, открытие училища. В тот же день Высочайшим рескриптом принц был утверждён в звании попечителя училища и пожалован кавалером ордена св. Владимира 2 степени. С момента учреждения училища до самой смерти своей, в течение почти полувека, принц не покидал самых сердечных забот об этом учреждении.
Общественная деятельность

Существуют упоминания о бюсте принца Ольденбургского, находившемся «у Варшавского вокзала ». Вероятно, бюст был установлен не у вокзала, а у здания Вольного экономического общества (4-я Красноармейская, 1/33), президентом которого был Пётр Георгиевич.
Ссылки
- , Метро-Россия (28.02.2007).
Отрывок, характеризующий Ольденбургский, Пётр Георгиевич
– Продай лошадь! – крикнул Денисов казаку.– Изволь, ваше благородие…
Офицеры встали и окружили казаков и пленного француза. Французский драгун был молодой малый, альзасец, говоривший по французски с немецким акцентом. Он задыхался от волнения, лицо его было красно, и, услыхав французский язык, он быстро заговорил с офицерами, обращаясь то к тому, то к другому. Он говорил, что его бы не взяли; что он не виноват в том, что его взяли, а виноват le caporal, который послал его захватить попоны, что он ему говорил, что уже русские там. И ко всякому слову он прибавлял: mais qu"on ne fasse pas de mal a mon petit cheval [Но не обижайте мою лошадку,] и ласкал свою лошадь. Видно было, что он не понимал хорошенько, где он находится. Он то извинялся, что его взяли, то, предполагая перед собою свое начальство, выказывал свою солдатскую исправность и заботливость о службе. Он донес с собой в наш арьергард во всей свежести атмосферу французского войска, которое так чуждо было для нас.
Казаки отдали лошадь за два червонца, и Ростов, теперь, получив деньги, самый богатый из офицеров, купил ее.
– Mais qu"on ne fasse pas de mal a mon petit cheval, – добродушно сказал альзасец Ростову, когда лошадь передана была гусару.
Ростов, улыбаясь, успокоил драгуна и дал ему денег.
– Алё! Алё! – сказал казак, трогая за руку пленного, чтобы он шел дальше.
– Государь! Государь! – вдруг послышалось между гусарами.
Всё побежало, заторопилось, и Ростов увидал сзади по дороге несколько подъезжающих всадников с белыми султанами на шляпах. В одну минуту все были на местах и ждали. Ростов не помнил и не чувствовал, как он добежал до своего места и сел на лошадь. Мгновенно прошло его сожаление о неучастии в деле, его будничное расположение духа в кругу приглядевшихся лиц, мгновенно исчезла всякая мысль о себе: он весь поглощен был чувством счастия, происходящего от близости государя. Он чувствовал себя одною этою близостью вознагражденным за потерю нынешнего дня. Он был счастлив, как любовник, дождавшийся ожидаемого свидания. Не смея оглядываться во фронте и не оглядываясь, он чувствовал восторженным чутьем его приближение. И он чувствовал это не по одному звуку копыт лошадей приближавшейся кавалькады, но он чувствовал это потому, что, по мере приближения, всё светлее, радостнее и значительнее и праздничнее делалось вокруг него. Всё ближе и ближе подвигалось это солнце для Ростова, распространяя вокруг себя лучи кроткого и величественного света, и вот он уже чувствует себя захваченным этими лучами, он слышит его голос – этот ласковый, спокойный, величественный и вместе с тем столь простой голос. Как и должно было быть по чувству Ростова, наступила мертвая тишина, и в этой тишине раздались звуки голоса государя.
– Les huzards de Pavlograd? [Павлоградские гусары?] – вопросительно сказал он.
– La reserve, sire! [Резерв, ваше величество!] – отвечал чей то другой голос, столь человеческий после того нечеловеческого голоса, который сказал: Les huzards de Pavlograd?
Государь поровнялся с Ростовым и остановился. Лицо Александра было еще прекраснее, чем на смотру три дня тому назад. Оно сияло такою веселостью и молодостью, такою невинною молодостью, что напоминало ребяческую четырнадцатилетнюю резвость, и вместе с тем это было всё таки лицо величественного императора. Случайно оглядывая эскадрон, глаза государя встретились с глазами Ростова и не более как на две секунды остановились на них. Понял ли государь, что делалось в душе Ростова (Ростову казалось, что он всё понял), но он посмотрел секунды две своими голубыми глазами в лицо Ростова. (Мягко и кротко лился из них свет.) Потом вдруг он приподнял брови, резким движением ударил левой ногой лошадь и галопом поехал вперед.
Молодой император не мог воздержаться от желания присутствовать при сражении и, несмотря на все представления придворных, в 12 часов, отделившись от 3 й колонны, при которой он следовал, поскакал к авангарду. Еще не доезжая до гусар, несколько адъютантов встретили его с известием о счастливом исходе дела.
Сражение, состоявшее только в том, что захвачен эскадрон французов, было представлено как блестящая победа над французами, и потому государь и вся армия, особенно после того, как не разошелся еще пороховой дым на поле сражения, верили, что французы побеждены и отступают против своей воли. Несколько минут после того, как проехал государь, дивизион павлоградцев потребовали вперед. В самом Вишау, маленьком немецком городке, Ростов еще раз увидал государя. На площади города, на которой была до приезда государя довольно сильная перестрелка, лежало несколько человек убитых и раненых, которых не успели подобрать. Государь, окруженный свитою военных и невоенных, был на рыжей, уже другой, чем на смотру, энглизированной кобыле и, склонившись на бок, грациозным жестом держа золотой лорнет у глаза, смотрел в него на лежащего ничком, без кивера, с окровавленною головою солдата. Солдат раненый был так нечист, груб и гадок, что Ростова оскорбила близость его к государю. Ростов видел, как содрогнулись, как бы от пробежавшего мороза, сутуловатые плечи государя, как левая нога его судорожно стала бить шпорой бок лошади, и как приученная лошадь равнодушно оглядывалась и не трогалась с места. Слезший с лошади адъютант взял под руки солдата и стал класть на появившиеся носилки. Солдат застонал.
– Тише, тише, разве нельзя тише? – видимо, более страдая, чем умирающий солдат, проговорил государь и отъехал прочь.
Ростов видел слезы, наполнившие глаза государя, и слышал, как он, отъезжая, по французски сказал Чарторижскому:
– Какая ужасная вещь война, какая ужасная вещь! Quelle terrible chose que la guerre!
Войска авангарда расположились впереди Вишау, в виду цепи неприятельской, уступавшей нам место при малейшей перестрелке в продолжение всего дня. Авангарду объявлена была благодарность государя, обещаны награды, и людям роздана двойная порция водки. Еще веселее, чем в прошлую ночь, трещали бивачные костры и раздавались солдатские песни.
Денисов в эту ночь праздновал производство свое в майоры, и Ростов, уже довольно выпивший в конце пирушки, предложил тост за здоровье государя, но «не государя императора, как говорят на официальных обедах, – сказал он, – а за здоровье государя, доброго, обворожительного и великого человека; пьем за его здоровье и за верную победу над французами!»
– Коли мы прежде дрались, – сказал он, – и не давали спуску французам, как под Шенграбеном, что же теперь будет, когда он впереди? Мы все умрем, с наслаждением умрем за него. Так, господа? Может быть, я не так говорю, я много выпил; да я так чувствую, и вы тоже. За здоровье Александра первого! Урра!
– Урра! – зазвучали воодушевленные голоса офицеров.
И старый ротмистр Кирстен кричал воодушевленно и не менее искренно, чем двадцатилетний Ростов.
Когда офицеры выпили и разбили свои стаканы, Кирстен налил другие и, в одной рубашке и рейтузах, с стаканом в руке подошел к солдатским кострам и в величественной позе взмахнув кверху рукой, с своими длинными седыми усами и белой грудью, видневшейся из за распахнувшейся рубашки, остановился в свете костра.
– Ребята, за здоровье государя императора, за победу над врагами, урра! – крикнул он своим молодецким, старческим, гусарским баритоном.
Гусары столпились и дружно отвечали громким криком.
Поздно ночью, когда все разошлись, Денисов потрепал своей коротенькой рукой по плечу своего любимца Ростова.
– Вот на походе не в кого влюбиться, так он в ца"я влюбился, – сказал он.
– Денисов, ты этим не шути, – крикнул Ростов, – это такое высокое, такое прекрасное чувство, такое…
– Ве"ю, ве"ю, д"ужок, и "азделяю и одоб"яю…
– Нет, не понимаешь!
И Ростов встал и пошел бродить между костров, мечтая о том, какое было бы счастие умереть, не спасая жизнь (об этом он и не смел мечтать), а просто умереть в глазах государя. Он действительно был влюблен и в царя, и в славу русского оружия, и в надежду будущего торжества. И не он один испытывал это чувство в те памятные дни, предшествующие Аустерлицкому сражению: девять десятых людей русской армии в то время были влюблены, хотя и менее восторженно, в своего царя и в славу русского оружия.
На следующий день государь остановился в Вишау. Лейб медик Вилье несколько раз был призываем к нему. В главной квартире и в ближайших войсках распространилось известие, что государь был нездоров. Он ничего не ел и дурно спал эту ночь, как говорили приближенные. Причина этого нездоровья заключалась в сильном впечатлении, произведенном на чувствительную душу государя видом раненых и убитых.
На заре 17 го числа в Вишау был препровожден с аванпостов французский офицер, приехавший под парламентерским флагом, требуя свидания с русским императором. Офицер этот был Савари. Государь только что заснул, и потому Савари должен был дожидаться. В полдень он был допущен к государю и через час поехал вместе с князем Долгоруковым на аванпосты французской армии.
Как слышно было, цель присылки Савари состояла в предложении свидания императора Александра с Наполеоном. В личном свидании, к радости и гордости всей армии, было отказано, и вместо государя князь Долгоруков, победитель при Вишау, был отправлен вместе с Савари для переговоров с Наполеоном, ежели переговоры эти, против чаяния, имели целью действительное желание мира.
Ввечеру вернулся Долгоруков, прошел прямо к государю и долго пробыл у него наедине.
18 и 19 ноября войска прошли еще два перехода вперед, и неприятельские аванпосты после коротких перестрелок отступали. В высших сферах армии с полдня 19 го числа началось сильное хлопотливо возбужденное движение, продолжавшееся до утра следующего дня, 20 го ноября, в который дано было столь памятное Аустерлицкое сражение.
До полудня 19 числа движение, оживленные разговоры, беготня, посылки адъютантов ограничивались одной главной квартирой императоров; после полудня того же дня движение передалось в главную квартиру Кутузова и в штабы колонных начальников. Вечером через адъютантов разнеслось это движение по всем концам и частям армии, и в ночь с 19 на 20 поднялась с ночлегов, загудела говором и заколыхалась и тронулась громадным девятиверстным холстом 80 титысячная масса союзного войска.
Сосредоточенное движение, начавшееся поутру в главной квартире императоров и давшее толчок всему дальнейшему движению, было похоже на первое движение серединного колеса больших башенных часов. Медленно двинулось одно колесо, повернулось другое, третье, и всё быстрее и быстрее пошли вертеться колеса, блоки, шестерни, начали играть куранты, выскакивать фигуры, и мерно стали подвигаться стрелки, показывая результат движения.
Как в механизме часов, так и в механизме военного дела, так же неудержимо до последнего результата раз данное движение, и так же безучастно неподвижны, за момент до передачи движения, части механизма, до которых еще не дошло дело. Свистят на осях колеса, цепляясь зубьями, шипят от быстроты вертящиеся блоки, а соседнее колесо так же спокойно и неподвижно, как будто оно сотни лет готово простоять этою неподвижностью; но пришел момент – зацепил рычаг, и, покоряясь движению, трещит, поворачиваясь, колесо и сливается в одно действие, результат и цель которого ему непонятны.
Как в часах результат сложного движения бесчисленных различных колес и блоков есть только медленное и уравномеренное движение стрелки, указывающей время, так и результатом всех сложных человеческих движений этих 1000 русских и французов – всех страстей, желаний, раскаяний, унижений, страданий, порывов гордости, страха, восторга этих людей – был только проигрыш Аустерлицкого сражения, так называемого сражения трех императоров, т. е. медленное передвижение всемирно исторической стрелки на циферблате истории человечества.
Князь Андрей был в этот день дежурным и неотлучно при главнокомандующем.
В 6 м часу вечера Кутузов приехал в главную квартиру императоров и, недолго пробыв у государя, пошел к обер гофмаршалу графу Толстому.
Болконский воспользовался этим временем, чтобы зайти к Долгорукову узнать о подробностях дела. Князь Андрей чувствовал, что Кутузов чем то расстроен и недоволен, и что им недовольны в главной квартире, и что все лица императорской главной квартиры имеют с ним тон людей, знающих что то такое, чего другие не знают; и поэтому ему хотелось поговорить с Долгоруковым.
– Ну, здравствуйте, mon cher, – сказал Долгоруков, сидевший с Билибиным за чаем. – Праздник на завтра. Что ваш старик? не в духе?
– Не скажу, чтобы был не в духе, но ему, кажется, хотелось бы, чтоб его выслушали.
– Да его слушали на военном совете и будут слушать, когда он будет говорить дело; но медлить и ждать чего то теперь, когда Бонапарт боится более всего генерального сражения, – невозможно.
– Да вы его видели? – сказал князь Андрей. – Ну, что Бонапарт? Какое впечатление он произвел на вас?
– Да, видел и убедился, что он боится генерального сражения более всего на свете, – повторил Долгоруков, видимо, дорожа этим общим выводом, сделанным им из его свидания с Наполеоном. – Ежели бы он не боялся сражения, для чего бы ему было требовать этого свидания, вести переговоры и, главное, отступать, тогда как отступление так противно всей его методе ведения войны? Поверьте мне: он боится, боится генерального сражения, его час настал. Это я вам говорю.
– Но расскажите, как он, что? – еще спросил князь Андрей.
– Он человек в сером сюртуке, очень желавший, чтобы я ему говорил «ваше величество», но, к огорчению своему, не получивший от меня никакого титула. Вот это какой человек, и больше ничего, – отвечал Долгоруков, оглядываясь с улыбкой на Билибина.
– Несмотря на мое полное уважение к старому Кутузову, – продолжал он, – хороши мы были бы все, ожидая чего то и тем давая ему случай уйти или обмануть нас, тогда как теперь он верно в наших руках. Нет, не надобно забывать Суворова и его правила: не ставить себя в положение атакованного, а атаковать самому. Поверьте, на войне энергия молодых людей часто вернее указывает путь, чем вся опытность старых кунктаторов.
– Но в какой же позиции мы атакуем его? Я был на аванпостах нынче, и нельзя решить, где он именно стоит с главными силами, – сказал князь Андрей.
Ему хотелось высказать Долгорукову свой, составленный им, план атаки.
– Ах, это совершенно всё равно, – быстро заговорил Долгоруков, вставая и раскрывая карту на столе. – Все случаи предвидены: ежели он стоит у Брюнна…
И князь Долгоруков быстро и неясно рассказал план флангового движения Вейротера.
Князь Андрей стал возражать и доказывать свой план, который мог быть одинаково хорош с планом Вейротера, но имел тот недостаток, что план Вейротера уже был одобрен. Как только князь Андрей стал доказывать невыгоды того и выгоды своего, князь Долгоруков перестал его слушать и рассеянно смотрел не на карту, а на лицо князя Андрея.
– Впрочем, у Кутузова будет нынче военный совет: вы там можете всё это высказать, – сказал Долгоруков.
– Я это и сделаю, – сказал князь Андрей, отходя от карты.
– И о чем вы заботитесь, господа? – сказал Билибин, до сих пор с веселой улыбкой слушавший их разговор и теперь, видимо, собираясь пошутить. – Будет ли завтра победа или поражение, слава русского оружия застрахована. Кроме вашего Кутузова, нет ни одного русского начальника колонн. Начальники: Неrr general Wimpfen, le comte de Langeron, le prince de Lichtenstein, le prince de Hohenloe et enfin Prsch… prsch… et ainsi de suite, comme tous les noms polonais. [Вимпфен, граф Ланжерон, князь Лихтенштейн, Гогенлое и еще Пришпршипрш, как все польские имена.]
– Taisez vous, mauvaise langue, [Удержите ваше злоязычие.] – сказал Долгоруков. – Неправда, теперь уже два русских: Милорадович и Дохтуров, и был бы 3 й, граф Аракчеев, но у него нервы слабы.
– Однако Михаил Иларионович, я думаю, вышел, – сказал князь Андрей. – Желаю счастия и успеха, господа, – прибавил он и вышел, пожав руки Долгорукову и Бибилину.
Возвращаясь домой, князь Андрей не мог удержаться, чтобы не спросить молчаливо сидевшего подле него Кутузова, о том, что он думает о завтрашнем сражении?
Кутузов строго посмотрел на своего адъютанта и, помолчав, ответил:
– Я думаю, что сражение будет проиграно, и я так сказал графу Толстому и просил его передать это государю. Что же, ты думаешь, он мне ответил? Eh, mon cher general, je me mele de riz et des et cotelettes, melez vous des affaires de la guerre. [И, любезный генерал! Я занят рисом и котлетами, а вы занимайтесь военными делами.] Да… Вот что мне отвечали!
В 10 м часу вечера Вейротер с своими планами переехал на квартиру Кутузова, где и был назначен военный совет. Все начальники колонн были потребованы к главнокомандующему, и, за исключением князя Багратиона, который отказался приехать, все явились к назначенному часу.
Вейротер, бывший полным распорядителем предполагаемого сражения, представлял своею оживленностью и торопливостью резкую противоположность с недовольным и сонным Кутузовым, неохотно игравшим роль председателя и руководителя военного совета. Вейротер, очевидно, чувствовал себя во главе.движения, которое стало уже неудержимо. Он был, как запряженная лошадь, разбежавшаяся с возом под гору. Он ли вез, или его гнало, он не знал; но он несся во всю возможную быстроту, не имея времени уже обсуждать того, к чему поведет это движение. Вейротер в этот вечер был два раза для личного осмотра в цепи неприятеля и два раза у государей, русского и австрийского, для доклада и объяснений, и в своей канцелярии, где он диктовал немецкую диспозицию. Он, измученный, приехал теперь к Кутузову.
Он, видимо, так был занят, что забывал даже быть почтительным с главнокомандующим: он перебивал его, говорил быстро, неясно, не глядя в лицо собеседника, не отвечая на деланные ему вопросы, был испачкан грязью и имел вид жалкий, измученный, растерянный и вместе с тем самонадеянный и гордый.
Кутузов занимал небольшой дворянский замок около Остралиц. В большой гостиной, сделавшейся кабинетом главнокомандующего, собрались: сам Кутузов, Вейротер и члены военного совета. Они пили чай. Ожидали только князя Багратиона, чтобы приступить к военному совету. В 8 м часу приехал ординарец Багратиона с известием, что князь быть не может. Князь Андрей пришел доложить о том главнокомандующему и, пользуясь прежде данным ему Кутузовым позволением присутствовать при совете, остался в комнате.
– Так как князь Багратион не будет, то мы можем начинать, – сказал Вейротер, поспешно вставая с своего места и приближаясь к столу, на котором была разложена огромная карта окрестностей Брюнна.
Кутузов в расстегнутом мундире, из которого, как бы освободившись, выплыла на воротник его жирная шея, сидел в вольтеровском кресле, положив симметрично пухлые старческие руки на подлокотники, и почти спал. На звук голоса Вейротера он с усилием открыл единственный глаз.
– Да, да, пожалуйста, а то поздно, – проговорил он и, кивнув головой, опустил ее и опять закрыл глаза.
Ежели первое время члены совета думали, что Кутузов притворялся спящим, то звуки, которые он издавал носом во время последующего чтения, доказывали, что в эту минуту для главнокомандующего дело шло о гораздо важнейшем, чем о желании выказать свое презрение к диспозиции или к чему бы то ни было: дело шло для него о неудержимом удовлетворении человеческой потребности – .сна. Он действительно спал. Вейротер с движением человека, слишком занятого для того, чтобы терять хоть одну минуту времени, взглянул на Кутузова и, убедившись, что он спит, взял бумагу и громким однообразным тоном начал читать диспозицию будущего сражения под заглавием, которое он тоже прочел:
«Диспозиция к атаке неприятельской позиции позади Кобельница и Сокольница, 20 ноября 1805 года».
Диспозиция была очень сложная и трудная. В оригинальной диспозиции значилось:
Da der Feind mit seinerien linken Fluegel an die mit Wald bedeckten Berge lehnt und sich mit seinerien rechten Fluegel laengs Kobeinitz und Sokolienitz hinter die dort befindIichen Teiche zieht, wir im Gegentheil mit unserem linken Fluegel seinen rechten sehr debordiren, so ist es vortheilhaft letzteren Fluegel des Feindes zu attakiren, besondere wenn wir die Doerfer Sokolienitz und Kobelienitz im Besitze haben, wodurch wir dem Feind zugleich in die Flanke fallen und ihn auf der Flaeche zwischen Schlapanitz und dem Thuerassa Walde verfolgen koennen, indem wir dem Defileen von Schlapanitz und Bellowitz ausweichen, welche die feindliche Front decken. Zu dieserien Endzwecke ist es noethig… Die erste Kolonne Marieschirt… die zweite Kolonne Marieschirt… die dritte Kolonne Marieschirt… [Так как неприятель опирается левым крылом своим на покрытые лесом горы, а правым крылом тянется вдоль Кобельница и Сокольница позади находящихся там прудов, а мы, напротив, превосходим нашим левым крылом его правое, то выгодно нам атаковать сие последнее неприятельское крыло, особливо если мы займем деревни Сокольниц и Кобельниц, будучи поставлены в возможность нападать на фланг неприятеля и преследовать его в равнине между Шлапаницем и лесом Тюрасским, избегая вместе с тем дефилеи между Шлапаницем и Беловицем, которою прикрыт неприятельский фронт. Для этой цели необходимо… Первая колонна марширует… вторая колонна марширует… третья колонна марширует…] и т. д., читал Вейротер. Генералы, казалось, неохотно слушали трудную диспозицию. Белокурый высокий генерал Буксгевден стоял, прислонившись спиною к стене, и, остановив свои глаза на горевшей свече, казалось, не слушал и даже не хотел, чтобы думали, что он слушает. Прямо против Вейротера, устремив на него свои блестящие открытые глаза, в воинственной позе, оперев руки с вытянутыми наружу локтями на колени, сидел румяный Милорадович с приподнятыми усами и плечами. Он упорно молчал, глядя в лицо Вейротера, и спускал с него глаза только в то время, когда австрийский начальник штаба замолкал. В это время Милорадович значительно оглядывался на других генералов. Но по значению этого значительного взгляда нельзя было понять, был ли он согласен или несогласен, доволен или недоволен диспозицией. Ближе всех к Вейротеру сидел граф Ланжерон и с тонкой улыбкой южного французского лица, не покидавшей его во всё время чтения, глядел на свои тонкие пальцы, быстро перевертывавшие за углы золотую табакерку с портретом. В середине одного из длиннейших периодов он остановил вращательное движение табакерки, поднял голову и с неприятною учтивостью на самых концах тонких губ перебил Вейротера и хотел сказать что то; но австрийский генерал, не прерывая чтения, сердито нахмурился и замахал локтями, как бы говоря: потом, потом вы мне скажете свои мысли, теперь извольте смотреть на карту и слушать. Ланжерон поднял глаза кверху с выражением недоумения, оглянулся на Милорадовича, как бы ища объяснения, но, встретив значительный, ничего не значущий взгляд Милорадовича, грустно опустил глаза и опять принялся вертеть табакерку.
– Une lecon de geographie, [Урок из географии,] – проговорил он как бы про себя, но довольно громко, чтобы его слышали.
Пржебышевский с почтительной, но достойной учтивостью пригнул рукой ухо к Вейротеру, имея вид человека, поглощенного вниманием. Маленький ростом Дохтуров сидел прямо против Вейротера с старательным и скромным видом и, нагнувшись над разложенною картой, добросовестно изучал диспозиции и неизвестную ему местность. Он несколько раз просил Вейротера повторять нехорошо расслышанные им слова и трудные наименования деревень. Вейротер исполнял его желание, и Дохтуров записывал.
Когда чтение, продолжавшееся более часу, было кончено, Ланжерон, опять остановив табакерку и не глядя на Вейротера и ни на кого особенно, начал говорить о том, как трудно было исполнить такую диспозицию, где положение неприятеля предполагается известным, тогда как положение это может быть нам неизвестно, так как неприятель находится в движении. Возражения Ланжерона были основательны, но было очевидно, что цель этих возражений состояла преимущественно в желании дать почувствовать генералу Вейротеру, столь самоуверенно, как школьникам ученикам, читавшему свою диспозицию, что он имел дело не с одними дураками, а с людьми, которые могли и его поучить в военном деле. Когда замолк однообразный звук голоса Вейротера, Кутузов открыл глава, как мельник, который просыпается при перерыве усыпительного звука мельничных колес, прислушался к тому, что говорил Ланжерон, и, как будто говоря: «а вы всё еще про эти глупости!» поспешно закрыл глаза и еще ниже опустил голову.
Немецкий Ольденбургский дом - один из мощнейших и древнейших в Европе, представители которого находились на престолах Дании, Прибалтики, Норвегии, Греции и были в родстве с домом Романовых, с королями Швеции, а также с детьми и внуками королевы Елизаветы II в Британии. Сейчас, в 2016 году, его возглавляет герцог Христиан, который родился в 1955-ом.
Династия Ольденбургов
Прежде чем перейти к Российской империи, надо указать ветви этого могучего дома. Старшая ветвь династии правила в Дании примерно с 1426 по 1863 год, а также в Ливонии в течение 10 лет в XVI веке. и Норвегии носили титул герцогов Шлезвиг-Гольштейнских. Ольденбургская династия породила Глюксбургскую линию с 1863 года, происходящую из дома герцогов Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Глюксбургских, которая правит в Дании с 1863 года по настоящее время. Члены этой линии сейчас находятся на норвежском престоле. Ее представителями были василевсы Греции с 1863 по 1974 год.
Российская империя
После смерти от оспы внука Петра Великого в 1730 году закончилось мужское поколение рода Романовых. Но некоторое время Россией управляла дочь Петра Великого, императрица Елизавета. Она скончалась, не оставив потомства, в 1761 году. После переворота 1762 года на российском престоле оказалась немецкая принцесса, дочь князя Ангальт-Цербстского. Ее мужем был Карл-Петер-Ульрих (Петр III), представитель Гольштейн-Готторпской ветви, младшей линии Ольденбургов. Таким образом, их сын и его последующие дети, внуки и правнуки были Романовыми только номинально. Они все женились на принцессах из немецких и датских родов.
Ольденбурги в России
Пригласил на службу в Россию молодого, хорошо образованного родственника. Георгий Петрович Ольденбургский (1784-1812), двоюродный брат императора, был назначен в 1808 году генерал-губернатором Эстляндии. Он энергично взялся за работу. Особое внимание принц уделял крестьянскому вопросу. В 1909 году он женился на великой княжне Екатерине Павловне, сестре Александра и Николая Павловичей. В этом же году принц Ольденбургский был назначен на должность Тверского, Новгородского и Ярославского генерал-губернатора.

Он энергично занялся благоустройством этих мест и активно посещал уездные города, контролируя работу администрации. Одновременно с этой работой ему было предложено заняться судоходством в России. Кроме этого, еще присоединилась работа по сухопутным путям сообщения. Местом постоянного нахождения молодой четы была Тверь. И уже в 1909 году началось углубление Ладожского канала. Так как не хватало специалистов, то принц предложил открыть новое учебное заведение, в котором будут выпускать инженеров. Император поддерживал его начинания, посещал принца в Твери, где познакомился с работами Карамзина по истории. Очень энергично принц отстраивал старые каналы, чем заслужил благодарность императора. Когда началась война, то Георгий Петрович собирал ополчение, продовольствие, размещал пленных. Но, внезапно заболев, молодой принц Ольденбургский скончался в 1812 году, оставив малолетних детей.
Дети и внуки
У него родился сын Петр в 1812 году, который стал круглым сиротой в 8 лет. По желанию матери его воспитывал дед. Принц Ольденбургский Петр жил в Германии и получил хорошее образование. За границей он изучал в том числе и русский язык. Император Николай I призвал племянника на службу в Россию. Ему было даровано имение в Петергофе, а также предоставлено зачисление в элитный Преображенский полк.

Он быстро поднимался по служебной лестнице и уже через четыре года после прибытия в Россию получил должность генерал-лейтенанта. Далее он перешел на статскую службу и стал сенатором. Он занимался правоведением и, убедившись, что в России не хватает юристов, добился учреждения Училища правоведения. При этом здание купил на собственные деньги. Петр Георгиевич активно занимался общественной деятельностью. Большое внимание в течение 20 лет уделял женскому образованию. На свои средства открыл детский приют. Активно продолжил благородную деятельность его сын, Александр Петрович.
Детство
Принц Александр был рожден в 1844 году. Как и положено в среде высшей аристократии, принц Ольденбургский был сразу принят в гвардию в с чином прапорщика. Точно так же готовились к службе на благо страны и три его брата. Они получали домашнее образование, их всех ждала карьера военных.
Юность
Из-за того что два брата в разное время совершили и лишились милостей императора Александра II и титулов принцев, наследником главы дома великих князей Ольденбургских стал Александр Петрович. Он получил дома самое разностороннее, можно сказать, энциклопедическое образование, много читал, так как в семье была прекрасная библиотека, а со временем стал профессиональным юристом.

Женитьба
Принц Ольденбургский женился на дочери герцога Лейхтенбергского. Евгения Максимилиановна занималась большой общественной деятельностью. Принцесса Ольденбургская покровительствовала Красному Кресту, Обществу поощрения художеств, а также Минералогическому обществу. Вместе с мужем она несла заботы о благотворительных, учебных и медицинских заведениях, которые курировал отец ее супруга. Принцесса Ольденбургская привлекла к работе по созданию художественных открыток с репродукциями картин Эрмитажа, Третьяковской галереи видных художников своего времени. Ее просветительскую деятельность продолжили и после революции. Она также открывала художественные школы в провинции и Петербурге.
Деятельность Александра Петровича
И в лейб-гвардии в мирное время, и на принц Ольденбургский проявил себя энергичным, требовательным в первую очередь к себе офицером. Во время войны он жил, как спартанец. Никакими дополнительными удобствами в виде экипажа или личного повара не пользовался. Его войска отличились при переходе через перевалы Балканских гор. Был награжден золотой шпагой и кортиком «За храбрость». Когда он вышел в отставку, то продолжил деятельность отца.

Он стоял у истоков создания Института экспериментальной медицины, в котором впоследствии работал И.П. Павлов, проводя опыты по физиологии. В нем же проводились исследования по борьбе с туберкулезом. Вспыхнувшая в Каспии чума была приостановлена, когда принц Александр лично выехал на борьбу с эпидемией. Кроме того, он создал климатический курорт в Гаграх, которым пользуются и в настоящее время.
Замок принца Ольденбургского
Он был построен в Гаграх. Вокруг него на побережье был разбит парк с цитрусовыми деревьями, стройными кипарисами и экзотическими агавами. Замок принца Ольденбургского выстроен в стиле модерн архитектором И.К. Люцеранским. Белоснежный дворец, крытый красной черепицей, с каминными трубами и башней сокольничего, поразительно красив. Но его не пощадило ни время, ни люди. Сейчас дворец в запустении и нуждается в экстренной реставрации.

Несмотря на многообразную деятельность, которой занимался принц Александр, его заслуги практически забыты. Он выехал на поля Мировой войны и был верховным начальником санитарной и эвакуационной части, снабжал армию продовольствием. После Февральской революции он был уволен. А осенью 1917 года навсегда покинул страну. Принц умер во Франции в возрасте 88 лет, пережив и супругу, и единственного сына.