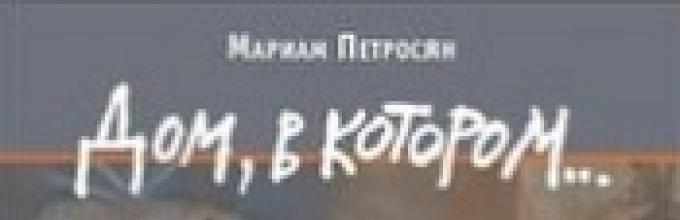Книга, написанная Мариам Петросян, «Дом, в котором...» объемна, но читается на одном дыхании. Читатели полностью погружаются в атмосферу книги, которая по-особенному притягивает, как будто в воздухе витает что-то магическое и необъяснимое. Не всем близок такой стиль повествования, скептики могут сказать, что им не хватает деталей и подробностей, объяснения некоторых моментов. Однако в том и особенность магического реализма, что книгу скорее нужно прочувствовать, чем анализировать, хотя и без этого здесь не обойдется.
Главным героем романа является сам Дом. Это место, в котором живут дети с определенными отклонениями, от них отказались родители или отдали их на воспитание на какое-то время. У кого-то из ребят нет рук или ног, а кто-то кажется вполне целым, как сказали бы герои этой книги. Только внешняя целостность вовсе не означает отсутствие внутренних проблем.
Дом – это особое место. Он старый и во многих местах унылый, однако люди, живущие в наружности, понятия не имеют, что на самом деле скрывается за его стенами. Здесь свой особенный мир, который нужно принять. Дом будто живой, и он не каждого готов впустить. Нужно либо жить по его законам, либо уходить. Для многих детей это место значит всё, они не готовы забыть все то, что происходило здесь. Здесь столько всего непонятного и загадочного, в каждой комнате свои правила, своя атмосфера. Здесь любят и ненавидят, помогают или даже готовы убить… Здесь знают, что такое никогда не оставаться одному и в то же время быть в одиночестве. Все ребята, живущие здесь, совсем не похожи на обычных людей. Чего только стоит мудрый Сфинкс, таинственный Черный, веселый, но загадочный Табаки, Лорд и Македонский… и многие-многие другие, живущие в Доме, который их не отпускает, с которым они становятся единым целым.
На нашем сайте вы можете скачать книгу "Дом, в котором..." Петросян Мариам бесплатно и без регистрации в формате fb2, rtf, epub, pdf, txt, читать книгу онлайн или купить книгу в интернет-магазине.
Мариам Петросян. Дом, в котором... М.: Livebook, 2009
Это и в самом деле большая книга - мрачная, объемистая, забирающая в плен, из которого хоть и хочется вырваться, да не выходит, держит крепко - совсем как тот Дом, о котором повествует Мариам Петросян. И это самый крутой трип, который доводилось мне читать в последнее время - больше всего почему-то возникло у меня ассоциаций с «Опрокинутым миром» Кристофера Приста. Возможно, из-за сходной авторской оптики, столь же сильно искажающей и преображающей реальность, обращающей ее в нечто иррациональное и мнимое.
Разумеется, у книги есть и рациональный план. Если судить по наружности - а мы еще вернемся к этому понятию - то перед нами повесть о непростой жизни детей-инвалидов в специальном интернате. Отягощенные болезнями и физическими недостатками, они проводят там годы - вплоть до совершеннолетия, и выход за стены Дома кажется им почти невозможным. Они не хотят уходить, поскольку весь мир сосредоточился для них в этом Доме, где они живут по писаным и неписаным законам и правилам - законам и правилам, которые в их сознании почти никак не связаны с внешним миром.
«Переселяемому в четвертую группу, настоятельно рекомендуется избавиться от любого вида измерителей времени: будильников, хронометров, секундомеров, наручных часов и т. д. Попытка сокрытия подобного рода предметов будет немедленно выявлена экспертом, и, в целях пресечения дальнейших провокаций подобного рода, нарушитель понесет наказание, определенное и утвержденное экспертом.
Переселяемому на территорию 3-ей группы, иначе именуемую «Гнездовищем», рекомендуется иметь при себе следующие предметы: набор ключей (неважно от чего), два цветочных горшка в хорошем состоянии, не менее четырех пар черных носков, охранный амулет-противоаллерген, беруши для ушей, книгу Дж. Уиндема «День Триффидов», свой старый гербарий. Переселенцу вне зависимости от места переселения, рекомендуется не оставлять на покидаемом участке одежду, постельное белье, предметы домашнего обихода, предметы, созданные лично переселяемым, а так же органику – волосы, ногти, слюну, сперму, использованные бинты, пластыри и носовые платки».
Но если вы ждете от этой повести разоблачительных приютских откровений в духе Гальего, которые так любит желтая пресса, вас постигнет разочарование. Потому что Дом, о котором пишет Петросян, существует как бы в иной реальности - и хотя стоит он, как подчеркивается на первых же страницах книги, среди самой обычной городской застройки, мы сразу видим, что он являет собой нечто иное по отношению к нашему миру.
«Дом стоит на окраине города. В месте, называемом «Расческой». Длинные многоэтажки здесь выстроены зубчатыми рядами с промежутками квадратно-бетонных дворов – предполагаемыми местами игр молодых «расчесочников». Зубья белы, многоглазы, и похожи один на другой. Там, где они еще не выросли – обнесенные заборами пустыри... На нейтральной территории между двумя мирами – зубцов и пустырей - стоит Дом. Его называют Серым. Он стар и по возрасту ближе к пустырям – захоронениям его ровесников. Он одинок – другие дома сторонятся его – и не похож на зубец, потому что не тянется вверх. В нем три этажа, фасад смотрит на трассу, у него тоже есть двор – длинный прямоугольник, обнесенный сеткой. Когда-то он был белым. Теперь он серый спереди и желтый с внутренней, дворовой стороны. Он щетинится антеннами и проводами, осыпается мелом и плачет трещинами».
Да и внутри все не так-то просто:
«Достаточно увидеть Дом, чтобы понять: он начал разваливаться еще в прошлом веке. Об этом же свидетельствуют замурованные камины и сложная система дымоходов. В ветреную погоду в стенах завывает не хуже, чем в каком-нибудь средневековом замке. Сплошное погружение в историю... Царящий в Доме маразм явно придумывался несколькими поколениями не совсем здоровых людей».
Но прежде всего, где этот дом? Похоже - нигде и везде. Автор будто намеренно не дает никакой географической или лингвистической привязки. Руководитель издательства, выпустившего книгу, Шаши Мартынова , рассказала мне, что Мариам Петросян говорит по-русски далеко не так хорошо, как пишет - но ведь и пишет она своеобразно. У меня сложилось впечатление, что книга сознательно написана на чужом для автора языке - и потому местами читается как перевод с какого-то неизвестного иностранного. В ней нет ни одного имени (кроме одного, довольно условного), в ней нет ни названий, ни знакомых торговых марок. Единственное, что оставляет нам автор - это временные привязки. Немногочисленные упоминания предметов быта и музыкальных групп отсылают читателя куда-то в конец 1980-х - начало 1990-х, когда в ходу еще были виниловые диски, Дэвид Боуи уже не был молодым, а эпоха компьютеров и мобильников еще не наступила.
Самое интересное, что это никакого значения не имеет. В книге нет быта. Мы знаем, что герои ее - инвалиды, но это никак не акцентируется, Герои, известные нам только по кличкам - да, такова традиция Дома, здесь все знают друг друга только по кличкам, и воспитанники, и воспитатели - вполне могут оказаться похищенными какими-нибудь инопланетянами и томиться взаперти на межпланетной станции. В конце концов, недаром директор Дома носит прозвище Акула, а персонал называют пауками, паучихами и даже ящиками. Мы даже можем усомниться - а люди ли сами герои книги? Да, у кого-то нет рук, кто-то слеп, а кто-то может перемещаться только на коляске, но, строго говоря, нам ничто не мешает предположить, что это просто существа такие - без верхних конечностей или там с колесами вместо ног.
Более того, всякий раз, когда автор вдруг решает сообщить нам какие-то реалистичные детали - скажем историю появления в Доме персонажа по прозвищу Македонский - тут же картинка делается плоской и скучной, словно газетный фельетон. Реальные люди должны бы говорить живым языком - а поскольку весь роман написан языком отчасти искусственным, возникает неприятная несовместимость, которую воспринимаешь, словно появление живого человека среди анимешных героев. Потому что обычно герои (а мы должны верить, что перед нами - дети-инвалиды) изъясняются совсем иначе, пребывая, так сказать, в академическом языковом пространстве. Вот фрагмент напряженного диалога между двумя главными персонажами, Курильщиком и Сфинксом, в котором Курильщик пытается убедить оппонента взглянуть на мир шире:
- Вы ведь живете взаперти. В замкнутом пространстве, понимаешь? Вы повернуты на самих себя и на это место, как невылупившиеся цыплята. Я думаю, от этого все ваши извращения (...) Ваши игры. Ночи, сказки, драки, войны… извини, но все это не кажется мне настоящим. Я называю это играми. Даже… даже когда они плохо кончаются...
Тебе не кажется, что это слишком - зарезать кого-то только за то, что он хотел считаться здесь самым крутым? В этом маленьком, затхлом мирке…(...)
Сфинкс, раскачивается, откинувшись на спинку стула.
- Пойми, Курильщик, - говорит он, стараясь не смотреть в раскрасневшееся лицо собеседника. - То, что для тебя ничего не значит, для кого-то - все. Почему ты не можешь в это поверить?
- Потому что это неправильно! - чуть не кричит Курильщик. - Вы слишком умные, чтобы жить, закрыв глаза! Чтобы верить, что с этого здания все начинается и им же заканчивается!
Диалог этот, между прочим, показателен - более всего герои стремятся сохранить замкнутость своего мира - и недаром окна здания, глядящие в «наружность» в итоге замуровывают - в отличие от тех, что выходят во двор, который, хотя и находится снаружи, все же остается внутренним пространством Дома.
Еще одна особенность романа - избыточное пространство, как языковое, так и сюжетное. Поначалу это воспринимается как недостаток, но по мере чтения понимаешь, что избыточное пространство как раз и необходимо для того, чтобы вся конструкция сложного, нелинейного сюжета, с отступлениями, с экскурсами в прошлое, заработала - но такое ощущение, что автор так толком это пространство не освоил, и потому осталось множество недосвязанных нитей, ведущих в никуда дверей и закрашенных окон.
Как ни странно, этот недостаток в некоторой степени оборачивается и достоинством, потому что работает на образ подлинного главного героя книги - самого Дома. Мы можем по-разному его интерпретировать - как наш земной мир посреди бесконечной и чуждой Вселенной - не в физическом, но в экзистенциальном смысле. Как врата, соединяющие мир внешней и внутренней реальности. Как Чистилище. Почти во всех случаях мы не знаем, откуда и как люди приходят в Дом - есть лишь смутные обрывки воспоминаний да история Македонского. А это, кстати, важный персонаж - не случайно Петросян вкладывает в его уста монолог о свободе и рабстве, - человек, отказавшийся творить чудеса, хорошие, плохие и средние, свободно согласившийся быть чужой тенью и чужими руками только для того, чтобы быть с другими…
Мы - и сами герои - не знают, что становится с теми, кто покидает стены Дома: известно лишь, что относятся к ним так же, как к покойникам. Мы не знаем, где пребывают Воспитатели, когда они вне Дома. Может быть, они вообще все уже неживые, ибо герои книги не раз намекают, что Дом - это и мост, соединяющий мир живых и мир мертвых. Один из главных героев книги, Курильщик, как-то замечает, что «вожаку в Доме желательно выглядеть восставшим мертвецом». Не удивительно, что в Доме можно обнаружить такие мосты, пройти по ним - и там...
«Саара живет на болоте. Он - и лягушки, поющие звонкие песни. Он тоже поет (в лунные ночи), и песни его прекрасны – вот и все, что он знает о себе самом. Кости Саары просвечивают сквозь бледную плоть, комары не садятся на него, зная, что он ядовит, губы его белы, в песне растягиваются во все лицо, глаза почти не видят. Пальцы терзают траву, он дрожит, сотрясаемый песнью - и ждет. Песня всегда приводит к нему разных. Самых мелких грязь засасывает прежде, чем они успевают дойти...
В узкой норе, красиво выложенной изнутри ракушками, Саара сладко спит, напившись крови гостя. Гость отдал ее добровольно, поэтому нельзя сказать, что Саара нарушил правила гостеприимства. Гость сидит рядом, одурманенный песнями».
Но все же гость возвращается.
И вот в этот причудливый мир, невероятно сложный, с кучей своих правил, законов и табу - табу, которые подвергают сомнению сами же обитатели дома, вторгается реальность. Кому-то суждено погибнуть, кому-то - исчезнуть, кого-то заберут с собой странные дурманящие вещества...
Все просто - дети вырастают. И тут начинаешь догадываться, что мир Дома - эта развернутая метафора детства, которое Петросян видит как нечто прекрасное и ужасное одновременно, детство, котрое само по себе - кошмар, но и расставание с ним - неизбежно (недаром темп событий, неумолимо влекущих к чему-то неведомо ужасному - или ужасно-неведомому - возрастает в последней трети романа, когда изменяют Закон, отныне позволяющий общаться с девушками - и они появляются: сексуальная Габи, прекрасная Русалка, опасная Рыжая). Это расставание стараются отвратить. Выпускник Седой так объясняет это юному воспитаннику Кузнечику:
«Выпускной год – плохое время. Шаг в пустоту, не каждый на это способен. Это год страха, сумасшедших и самоубийц, психов и истериков, всей той мерзости, что лезет из тех, кто боится. Хуже нет ничего. Лучше уйти раньше. Как это сделаю я. Если есть такая возможность».
Но возможности обычно нет - из детства раньше срока не вырвешься, а если кому и удается, то последствия оказывается тяжкими. В конечном счете, в глазах общества все дети - неполноценные люди, они не вправе выбирать себе судьбу. Прекрасный мир детства по отношению к большому миру - маленький затхлый мирок, обитатели которого живут по странным, с точки зрения большого мира, словно безумным, законам и правилам. Они - инопланетяне, и неважно, красавцы это из элитной гимназии или «колясочники» из специнтерната.
Мариам Петросян
ДОМ, В КОТОРОМ…
(Книга первая)
Дом стоит на окраине города. В месте, называемом «Расческой». Длинные многоэтажки здесь выстроены зубчатыми рядами с промежутками квадратно-бетонных дворов - предполагаемыми местами игр молодых «расчесочников». Зубья белы, многоглазы, и похожи один на другой. Там, где они еще не выросли - обнесенные заборами пустыри. Труха снесенных домов, гнездилища крыс и бродячих собак, гораздо более интересные молодым «расчесочникам», чем их собственные дворы - интервалы между зубьями.
На нейтральной территории между двумя мирами - зубцов и пустырей - стоит Дом. Его называют Серым. Он стар и по возрасту ближе к пустырям - захоронениям его ровесников. Он одинок - другие дома сторонятся его - и не похож на зубец, потому что не тянется вверх. В нем три этажа, фасад смотрит на трассу, у него тоже есть двор - длинный прямоугольник, обнесенный сеткой. Когда-то он был белым. Теперь он серый спереди и желтый с внутренней, дворовой стороны. Он щетинится антеннами и проводами, осыпается мелом и плачет трещинами. К нему жмутся гаражи и пристройки, мусорные баки и со бачьи будки. Все это со двора. Фасад гол и мрачен, каким ему и полагается быть.
Серый Дом не любят. Никто не скажет об этом вслух, но жители «Расчесок» предпочли бы не иметь его рядом. Они предпочли бы, чтобы его не было вообще.
КУРИЛЬЩИК.
Некоторые преимущества спортивной обуви
Все началось с красных кроссовок. Я нашел их на дне сумки. Сумка для хранения личных вещей - так это называется. Только никаких личных вещей там не бывает. Пара вафельных полотенец, стопка носовых платков и грязное белье. Все как у всех. Все сумки, полотенца, носки и трусы одинаковые, чтобы никому не было обидно.
Кроссовки я нашел случайно. Давно забыл о них. Старый подарок, уже и не вспомнить чей, из прошлой жизни. Ярко-красные, запакованные в блестящий пакет, с полосатой, как леденец подошвой. Я разорвал упаковку, по гладил огненные шнурки и быстро переобулся. Ноги приобрели странный вид. Какой-то непривычно ходячий. Я и забыл, что они могут быть такими.
В тот же день после уроков Джин отозвал меня в сторонку и сказал, что ему не нравится, как я себя веду. Показал на кроссовки и велел снять их. Не стоило спрашивать, зачем это нужно, но я спросил.
Они привлекают внимание, - сказал он.
Для Джина это нормально - такое объяснение.
Ну и что? - возразил я. - Пусть себе привлекают.
Он ничего не ответил. Поправил шнурок на очках, улыбнулся, и уехал. А вечером я получил записку. Только два слова: «Обсуждение обуви». И понял, что попался.
Сбривая пух со щек, я порезался и разбил стакан из-под зубных щеток. Отражение, смотревшее на меня из зеркала, выглядело до смерти напуганным, но на самом деле я не боялся. Мне было все равно. Я даже кроссовки не стал снимать.
Собрание проводилось в классе. На доске написали: «Обсуждение обуви». Цирк и маразм. Только мне было не до смеха, потому что я устал от этих игр, от умниц-игроков и самого этого места. Устал так сильно, что почти уже разучился смеяться.
Меня посадили у доски, чтобы все могли видеть предмет обсуждения. Слева за столом сидел Джин и сосал ручку. Справа Длинный Кит с треском гонял шарик по коридорчикам пластмассового лабиринта, пока на него не посмотрели осуждающе.
Кто хочет высказаться? - спросил Джин.
Высказаться хотели многие. Почти все. Для начала слово предоставили Сипу. Наверное, чтобы побыстрее отделаться.
Выяснилось, что всякий человек пытающийся привлечь к себе внимание, есть человек самовлюбленный и нехороший, способный на что угодно и воображающий о себе невесть что, в то время как на самом деле он просто-на просто пустышка. Ворона в павлиньих перьях. Или что-то в этом роде. Сип прочел басню о вороне. Потом стихи об осле, угодившем в озеро и потонувшем из-за собственной глупости. Потом он собрался было спеть что-то на ту же тему, но его уже никто не слушал. Сип надул щеки, расплакался и замолчал. Ему сказали спасибо, передали платок, заслонили учебником и предоставили слово Гулю.
Гуль говорил еле слышно, не поднимая головы, как будто считывал текст с поверхности стола, хотя ничего, кроме поцарапанного пластика, там не было. Белая челка лезла в глаз, он поправлял ее кончиком пальца, смоченным слюной. Палец фиксировал бесцветную прядь на лбу, но как только отпускал, она тут же сползала обратно в глаз. Чтобы смотреть на Гуля долго, нужно иметь стальные нервы. Поэтому я на него не смотрел. От моих нервов и так остались одни ошметки, незачем было лишний раз их терзать.
К чему пытается привлечь внимание обсуждаемый? К своей обуви, казалось бы. На самом деле это не так. Посредством обуви он привлекает внимание к своим ногам. То есть афиширует свой недостаток, тычет им в глаза окружающим. Этим он как бы подчеркивает нашу общую беду, не считаясь с нами и нашим мнением. В каком-то смысле, он по-своему издевается над нами…
Гуль еще долго размазывал эту кашу. Палец сновал вверх и вниз по переносице, белки наливались кровью. Я знал наизусть все, что он может сказать - все, что вообще принято говорить в таких случаях. Слова, вылезавшие из Гуля были такими же бесцветными и пересушенными, как он сам, его палец и ноготь на пальце.
Потом говорил Топ. Примерно то же самое и так же нудно. Потом Ниф, Нуф и Наф. Тройняшки с поросячьими кличками. Они говорили одновременно, перебивая друг друга, и на них я как раз смотрел с большим интересом, потому что не ожидал, что они станут участвовать в обсуждении. Им, должно быть, не понравилось, как я на них смотрю, или они застеснялись, но от этого получилось только хуже. От них мне досталось больше всех. Они припомнили мою привычку загибать страницы книг (а ведь книги читаю не я один), то, что я не сдал свои носовые платки в фонд общего пользования (хотя нос растет не у меня одного), что сижу в ванне дольше положенного (двадцать восемь минут вместо двадцати), толкаюсь колесами при езде, (а ведь колеса надо беречь!), и наконец, добрались до главного - до того, что я курю. Если конечно можно назвать курящим человека, выкуривающего в течение трех дней одну сигарету.
Меня спрашивали, знаю ли я, какой вред наносит никотин здоровью окружающих. Конечно, я знал. Я вполне уже мог читать лекции на эту тему, потому что за полгода они скормили мне столько брошюр, статей и высказываний о вреде курения, что хватило бы человек на двадцать и еще осталось бы про запас. Мне рассказали о раке легких. Потом отдельно о раке. Потом о сердечнососудистых заболеваниях. Потом еще о каких-то кошмарных болезнях, но про это я уже слушать не стал. О таких вещах они могли говорить часами. Ужасаясь и содрогаясь. Как дряхлые сплетницы, обсуждающие убийства и несчастные случаи, пуская при этом слюни от восторга. Аккуратные мальчики в чистых сорочках, серьезные и положительные. Под их лицами прятались старушечьи физиономии, изъеденные ядом. Я угадывал их не в первый раз и уже не удивлялся. Они надоели мне до того, что хотелось отравить никотином всех сразу и каж дого в отдельности. К сожалению, это было невозможно. Свою несчастную сигарету-трехдневку я выкуривал тайком в учительском туалете. Даже не в нашем, боже упаси! И если кого и травил, так только тараканов, по тому что никто, кроме тараканов, туда не наведывался.
Мариам Петросян – профессиональный художник. В её планы не входила писательская карьера. Тем не менее, в 1991 году она начала писать книгу «для себя», не собираясь когда-либо её публиковать. Через несколько лет роман “Дом, в котором…” был практически готов. Петросян подарила рукопись своей подруге, жившей в Москве. Сын подруги передал рукопись своему знакомому, который, в свою очередь, отдал будущую книгу ещё кому-то. В результате, после длительного «путешествия» рукопись оказалась у главного редактора издательства «Гаятри».
Издательство предложило Петросян сотрудничество. С начала «путешествия» рукописи до выхода книги прошло более десяти лет. Финал романа Петросян дописывала в спешке. Книга была опубликована в 2009 году. В общей сложности на работу над романом ушло около двадцати лет.
По словам автора, образы многих героев её первого и последнего романа появились задолго до того, как она начала писать. Идея создать замкнутый социум на ограниченном пространстве возникла у писательницы, когда она некоторое время жила со своим мужем в двухкомнатной квартире в Москве.
В соседней комнате жили армянские студенты, образовав своеобразное микрогосударство, в котором были свои законы и порядки. Свод правил, которые нельзя было нарушать ни при каких обстоятельствах, висел на стене в комнате студентов.
Действие происходит в интернате для детей, имеющих инвалидность. У обитателей интерната нет имён, только клички. Время и место действия не известны. Автор умышленно абстрагируется от объективной реальности, не указывая никаких сведений, благодаря которым читатели могли бы установить страну или эпоху. Интернат должен предстать единственным реальным миром, который видят читатели, и в котором обитают инвалиды. Действительность вне Дома рассматривается воспитанниками как нечто враждебное и неизвестное.
При более близком знакомстве с Домом оказывается, что, как и в любом государстве, в интернате существуют свои собственные законы. Воспитанники Дома периодически покидают интернат, чтобы перейти в параллельный мир. Одни пациенты совершают переход по доброй воли, других в параллельную реальность «забрасывает». «Уйти» может только сознание. Оставшееся в интернате тело воспитанника впадет в кому, в которой может оставаться в течение нескольких недель или дней. Сознанию при этом кажется, что человек прожил в параллельном мире долгие годы.
Никто из пациентов не хочет покидать интернат, к укладу жизни которого они так привыкли. Кроме этого, во время каждого выпуска воспитанников случаются всевозможные несчастья. Однако Дом всё-таки придётся покинуть, так как ходят слухи, что после последнего выпуска он будет снесён. Одни пациенты принимают решение вернуться в мир, из которого они пришли в интернат и научиться жить заново. Другие пациенты планируют остаться, чтобы перейти в параллельную реальность и пробыть там некоторое время.
Характеристика персонажей
Герои романа поделены на несколько групп.
Примерные Фазаны
Эта группа пациентов-колясочников не интересуется жизнью остальных воспитанников. Фазаны-колясочники (в романе используется слово «колясники») заняты учёбой и заботой о своём здоровье. Воспитанник по кличке Курильщик, который также относится к колясочникам, считает Фазанов ябедами и лицемерами. Поссорившись со своими собратьями по несчастью, Курильщик переходит в другую группу.
Шумные Крысы
Пациенты, именуемые Крысами, носят особенные причёски и отличаются крутым нравом. Крысы носят при себе холодное оружие.
Возможно вы сможете заинтересовать вашего ребенка увлекательной книгой Мариам Петросян , рассказывающей о щенке, который имел крылья.
В следующей нашей статье мы предлагаем вам ознакомиться с биографией Мариам Петросян – современной талантливой армянской писательницы, известной по ее двух произведениях.
Грустные Птицы
Пациентов этой группы отличает постоянный траур, который они вынуждены носить по умершему брату своего предводителя. Все Птицы увлекаются цветоводством.
Безымянная группа
Одна из групп Дома не имеет определённого названия. Её предводителем является пациент по кличке Слепой, которого также считают лидером интерната.
Псы в кожаных ошейниках
Группа воспитанников, называемых Псами, занимает две комнаты интерната. Пациенты-Псы носят кожаные ошейники.
Некоторые персонажи достойны отдельного описания. Наибольший интерес читателей вызывает Македонский. Воспитанник не является больным. Живя когда-то со своим дедушкой, Македонский участвовал в культе, который был создан его престарелым родственником. После смерти дедушки мальчик стал жить у других родственников. «Сверхспособности» Македонского вызвали у его новых опекунов непреодолимый страх, и они отправили мальчика в интернат.
 Роман М. Петросян был удостоен нескольких премий, первые из которых были получены уже в 2009 году. Однако далеко не все критики отнеслись к книге благодушно. Помимо немалого количества достоинств, был отмечен и целый ряд серьёзных недостатков. По мнению некоторых критиков, автор нарушил морально-этические нормы, сделав главными героями романа обитателей интерната для инвалидов. Подробное описание замкнутого мира больных детей может показаться слишком неэтичным.
Роман М. Петросян был удостоен нескольких премий, первые из которых были получены уже в 2009 году. Однако далеко не все критики отнеслись к книге благодушно. Помимо немалого количества достоинств, был отмечен и целый ряд серьёзных недостатков. По мнению некоторых критиков, автор нарушил морально-этические нормы, сделав главными героями романа обитателей интерната для инвалидов. Подробное описание замкнутого мира больных детей может показаться слишком неэтичным.
Недосказанность и неоконченность также вызывают недовольства. Возникает впечатление, что перед читателем находится не весь роман, а только какая-то его часть, а начало и конец остались где-то в недосягаемости. Автор не пытается устранить это впечатление, нарочно подчёркивая его неоконченным названием. Однако заглавие «Дом, в котором…» заставляет потенциального читателя выбрать именно эту книгу. Каждому захочется узнать, что же произошло в этом доме.
Петросян позиционирует себя в своём романе не как кукловода, который дёргает за ниточки, передвигая марионетки, а как наблюдателя. Автору-наблюдателю всюду открыт доступ. Он легко может посмотреть на загадочный Дом глазами любого из своих персонажей. Главные герои абсолютно самостоятельны. Они возникают перед мысленным взором только тогда, когда сочтут нужным это сделать.
Автор-наблюдатель
Писательница утверждает, что вошла в Дом вместе с Курильщиком и начала встречать своих персонажей одного за другим. Каждый герой обладал своим собственным характером, который не нужно было придумывать, достаточно было просто его нарисовать. Сначала Мариам считала лидером одного главного героя. Затем она поняла, что ошиблась, когда встретила Слепого.
Позиция наблюдателя не позволяет автору получить ответы на многие вопросы. В результате, в недоумении остаются и сами читатели. Без ответа оставлен и самый главный вопрос: действительно ли в загадочном интернате существовал вход в параллельный мир, посещать который могли только воспитанники? Посещения параллельной реальности описано слишком неопределённо. От ответа на поставленный вопрос будет зависеть жанр всего произведения. Визиты в потустороннюю реальность заставляют читателей вспомнить самую известную сказку Л. Кэрролла «Алиса в стране чудес». Великолепный мир, в который попала маленькая Алиса, оказался сном. Параллельная реальность, куда так часто уходили пациенты Дома, могла быть обыкновенными галлюцинациями, возникшими под действием принятых лекарств.
Мариам Петросян “Дом в котором…”: краткое содержание