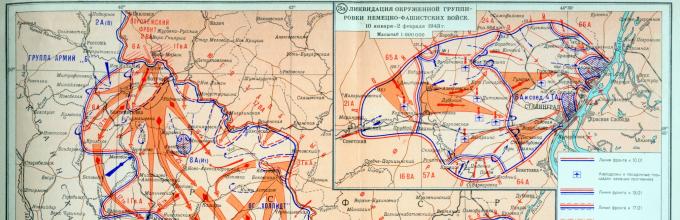Отказ от плана «Сатурн» стал ошибкой, не позволившей завершить войну раньше мая 1945 года.Блестящую по замыслу наступательную операцию могла остановить ее сложность...
Семьдесят четыре года назад – 2 февраля 1943-го капитуляцией последних частей 6-й армии фельдмаршала Фридриха Паулюса завершилась Сталинградская битва, следом за которой разыгралось сражение на Курской дуге, ставшее переломным в Великой Отечественной.
Именно такие представления о войне закладываются в сознание россиян со школьной скамьи и закрепляются в студенческих аудиториях. Собственно, так все и было. Но с единственным уточнением: на страницах учебников до сих пор почти ничего не сказано о несостоявшейся операции, которая могла бы привести к Победе значительно раньше весны 1945 года.
Речь о разработанном советским Генштабом и утвержденном 2 декабря 1942 года Ставкой Верховного главнокомандования плане «Сатурн». Его цель – разгром силами левого крыла Воронежского и Юго-Западного фронтов войск противника в большой излучине Дона. После этого предусматривался удар в направлении Ростова-на-Дону, позволявший выйти в тыл германским войскам на юге России: группам армий «Дон» и «Б», а также перерезать коммуникации оперировавшей на Кавказе группе армий «А».
Расчеты советских генштабистов имели основания. В декабре 1942-го после поражения на Волге фашистское командование всерьез опасалось крушения южного крыла своего Восточного фронта, растянувшегося от задонских степей до вершин Кавказа более чем на две тысячи километров, что, по мнению фельдмаршала Эриха фон Манштейна, могло открыть Советскому Союзу путь к скорой победе над Германией.
Точка зрения лучшего стратега вермахта заслуживает внимания, ибо он зимой 1942–1943 годов находился в центре разворачивавшихся на юге России событий, командуя группой армий «Дон».
Другой фашистский военачальник, автор самого масштабного германского труда по Второй мировой войне генерал Курт фон Типпельскирх пишет более определенно: «Сталин со злобной радостью следил за наступлением немецких войск на Сталинград и Кавказ. Он расходовал свои резервы очень экономно и только тогда, когда было действительно необходимо помочь обороняющимся в их крайне тяжелом положении. Вновь сформированные, а также отдохнувшие и пополненные дивизии пока не вводились в бой: они предназначались для того, чтобы, как карающим мечом Немезиды, разрубить слишком растянутый фронт немецких армий и их союзников и одним ударом внести коренной перелом в положение на юге».

Обратим внимание на последнюю фразу Типпельскирха об одном мощном ударе, способном внести перелом в ход войны. В сущности именно к этому и стремилось советское командование, имея, казалось бы, все основания рассчитывать на быстрый разгром противника, буквально вцепившегося в горы Кавказа.
Ситуация для немцев усугублялась неспособностью группы армий «А» осуществить быстрый отход с занятых позиций, поскольку в распоряжении главной ее силы – 1-й танковой армии оказалось недостаточное количество горючего для оперативного отступления к Ростову-на-Дону.
Но дело было не только в топливе. Гитлер упорно не желал отдавать приказ на отвод своих войск с Кавказа, неминуемо готовя для них «второй Сталинград». Чем же руководствовался фюрер? Ответ на этот вопрос дает в своем фундаментальном труде «Вторая мировая война» английский историк Лиддел Гарт: «На решение Гитлера большое влияние оказали его советники по экономическим вопросам. Они заявили Гитлеру, что Германия не сможет продолжать войну, если не получит кавказскую нефть». Советники ошибались: и без нее немцы сражались почти три года.
Однако пути к Каспию, проходящие сквозь бескрайние донские степи и вершины Кавказа, были слишком опасны для вермахта. Да, мощным ударом представлялось возможным прорвать оборону Красной армии на юге России и выйти к Баку, но на обеспечение фланга операции у вермахта попросту не было сил. И многие германские стратеги отдавали себе в этом отсчет.
В частности, генерал Гейнц Гудериан вспоминал: «Как и в августе 1941 года, Гитлер преследовал экономические и политические цели, которых он хотел достигнуть еще до того, как будет сломлена военная мощь противника. Овладение нефтяными месторождениями, расположенными в районе Каспийского моря, нарушение судоходства по Волге и парализация сталинградской промышленности – вот те цели, которые послужили основанием для принятия этих, непонятных с военной точки зрения решений в выборе операционных направлений».
Сливки вермахта
Непонятными с военной точки зрения цели Гитлера показались и Сталину, полагавшему, что фашисты, не взяв Москву, не бросят свою главную группировку на захват Кавказа, ибо это неминуемо приведет к чрезмерной растяжке фронта, на что немецкое командование не пойдет. Сталин в данном случае говорил об очевидном, поскольку без победы под Москвой, Воронежем и Сталинградом наступление на Кавказ со стратегической точки зрения становилось для вермахта авантюрой.
Однако фюрер нередко руководствовался не доводами разума и рекомендациями своих генералов, а интуицией, верой в собственную звезду. Кроме того, в его приоритетах экономические соображения всегда превалировали над сугубо военными, на что и обращает внимание Гудериан.
Да и не верил фюрер в способность русских провести эффективное и крупномасштабное контрнаступление на юге России. Вновь предоставим слово Гарту: «Немецкая разведывательная служба располагала сведениями, что заводы русских на Урале, в других районах производят 600–700 танков в месяц. Когда Гальдер доложил об этом фюреру, Гитлер стукнул кулаком по столу и заявил, что подобные темпы производства невозможны. Он не верил в то, во что не хотел верить».
Добавим, что фланги наступающей немецкой группировки обеспечивали слабые в боевом отношении итальянцы, румыны и венгры. В конечном счете 19 ноября 1942 года советские войска перешли под Сталинградом в контрнаступление (операция «Уран»), окружив 6-ю армию. А продвижение гитлеровцев на Кавказе захлебнулось. Казалось, самое время нанести удар в тыл и фланг всей южной группировке вермахта. Однако этого не произошло. Почему?
Одна из главных причин в первоначально неверной оценке численности окруженных под Сталинградом сил противника. Полагали, что в «котле» порядка 80 тысяч солдат и офицеров, оказалось – в три раза больше. И дело не только в численности, но и в качестве окруженных войск. Нам предстояло уничтожить группировку, состоявшую едва ли не из лучших солдат рейха. 6-я армия была образована в октябре 1939-го и начала боевой путь на полях Франции, где блестяще себя зарекомендовала. В 1941-м принимала участие в приграничном и крупнейшем в военной истории танковом сражении в районе Ковно – Дубно – Луцк – Ровно.
Во главе окруженной в Сталинграде группировки стоял один из лучших гитлеровских полководцев – автор плана «Барбаросса» Паулюс, впрочем, в плане принятия решений весьма зависевший от своего начальника штаба генерала Артура Шмидта – убежденного нациста, так и не согласившегося в плену в отличие от своего начальника сотрудничать с советским командованием. Сильнейшим соединением армии – 14-м танковым корпусом командовал генерал Валентин Хубе – храбрый и решительный, потерявший руку на полях Первой мировой.
В 1941-м он во главе 16-й танковой дивизии (тд) дрался в самом пекле вышеупомянутого приграничного сражения на Украине. Недаром в январе 1943 года Гитлер приказал Хубе покинуть на самолете обреченный Сталинград. Ценил. И не напрасно – в январе 1944-го 1-я танковая армия Хубе оказалась окружена в районе Каменец-Подольска, но генерал сумел разорвать кольцо. Командир сильнейшей в корпусе 16-й тд генерал Гюнтер Ангерн неизменно на передовой. Был ранен в 1941-м, но вернулся в строй, а когда для 6-й армии все было кончено, плену предпочел пулю в лоб. Характеристика высоких боевых качеств некоторых нацистских генералов отнюдь не попытка их восхваления, но обоснование причин, заставивших советское командование отказаться от операции «Сатурн».
Высокий профессионализм противника в данном случае не последний аргумент. К тому же блокированные в Сталинграде фашистские войска опирались, по словам командующего Донским фронтом и победителя Паулюса маршала (тогда еще генерала) Константина Рокоссовского, «на хорошо подготовленные в инженерном отношении позиции, значительно развитые в глубину». Созданы эти укрепления были еще защитниками города.
Очевидно, что столь мощная по численности и боевым качествам группировка во главе с опытными командирами путем сильного контрудара могла вырваться из окружения. Это прекрасно понимали как Рокоссовский и начальник Генерального штаба Александр Василевский, так и командующий ГА «Б» (в ее состав входила 6-я армия) Максимилиан фон Вейхс. Последний уже на второй день после окружения дивизий Паулюса счел нужным отдать приказ последнему на прорыв. Его мнение поддержал начальник Генерального штаба сухопутных войск генерал Курт Цейтцлер, сменивший в этой должности Гальдера в сентябре 1942-го.
Названные германские военачальники не сомневались в положительном ответе Гитлера и запланировали прорыв 6-й армии на 25 ноября. Однако фюрер запретил Паулюсу покидать Сталинград, равно как и не спешил отдавать приказ группе армий «А» на отход с Кавказа.
Остановить Манштейна
Увы, об этом не знало советское командование. В Ставке были убеждены: Паулюс попытается разорвать кольцо. Однако Гитлер принял иное решение: он переподчинил 6-ю армию командующему группой армий «Дон» Манштейну, которому приказал ударом из района Котельниково деблокировать войска Паулюса.
Сильнейшим соединением ГА «Дон» был 57-й танковый корпус с одной из лучших в вермахте 6-й тд, представлявшей собой ударный клин наступления и имевшей в распоряжении 160 танков и 40 самоходных орудий. Ее боевой путь начался в 1939-м с польской кампании, где она стремительным наступлением окружила группировку противника. Это был первый во Второй мировой войне «котел».
4-й танковой армией командовал генерал Герман Гот – наряду с Гудерианом один из самых способных немецких военачальников. 12 декабря Манштейн бросил свои войска в наступление. Ломая сопротивление советских войск, 4-я танковая армия Германа Гота продвигалась вперед. Но слишком медленно – для развития удара необходимы были резервы, а их, по воспоминаниям Манштейна, у главного командования не оказалось.
Но дело не только в этом. На пути 4-й танковой встала 2-я армия генерала Родиона Малиновского, по собственной инициативе, то есть без согласования со Ставкой, двинувшего свои дивизии, направлявшиеся к Ростову-на-Дону, навстречу Готу. Храбрый командарм начал свой славный боевой путь еще в Первую мировую, особо отличился на полях Франции в составе Русского экспедиционного корпуса («За четверть века до маршальской звезды»), на фронтах Великой Отечественной – с первого дня.
Зимой 1942-го во главе войск Южного фронта Малиновский нанес поражение противнику под Харьковом, спустя несколько месяцев под этим же городом вверенные ему войска ожидала серьезная неудача, обернувшаяся для Родиона Яковлевича понижением до командарма, но вместе с неудачами будущий маршал приобрел и опыт. После Котельникова Малиновский уже не знал поражений.
Противник был остановлен, действия Малиновского одобрены Ставкой. Немцы же убедились: русские научились воевать, проявляя не только свойственный им героизм, но и инициативу и тактическое мастерство. В этой ситуации Сталин и его военачальники оказались перед дилеммой: либо, следуя первоначальному замыслу, нанести удар в направлении Ростова, либо сосредоточить силы на решении более скромных, но, как казалось, важнейших задач – нанести удар в левый фланг ГА «Дон», заставив прекратить наступление на помощь 6-й армии.
Сторонником первого варианта был Рокоссовский. Талантливейший и решительный военачальник – уже в июне 1941-го, командуя 9-м механизированным корпусом, бил немцев под Дубно. Он считал, что игра стоила свеч. Выход советских войск в тыл и на коммуникации ГА «Дон» и «А», как изначально планировалось и чего очень боялись немцы, в любом случае заставил бы Манштейна прекратить наступление на помощь 6-й армии. Как спустя полгода наступление Западного и Брянского фронтов заставило его остановить успешно развивавшийся удар на южном фасе Курской дуги.
В этой ситуации дивизии Паулюса, сколь бы боеспособны они ни были, оказывались в патовой ситуации, из которой выход только один – капитуляция. Однако Василевский, более близкий к Сталину в силу служебного положения, считал иначе. Его аргументы сводились к тому, что 6-я армия – слишком мощная сила, чтобы не обращать на нее должного внимания. Сталин поддержал Василевского.
Жуков вспоминал: «В первой половине декабря операция по уничтожению окруженного противника войсками Донского и Сталинградского фронтов развивалась крайне медленно. Сталин нервничал и требовал от командования фронтов быстрейшего завершения разгрома окруженной группировки».
Удовлетворились «Малым»
Вероятно, нервозность Верховного и то, что не удалось быстро разгромить группировку противника в Сталинграде, заставили отказаться от операции «Сатурн», бросить все силы против левого фланга ГА «Дон» – на «Малый Сатурн». В сущности позиция начальника Генштаба являлась обоснованной – если бы не известный нам приказ Гитлера Паулюсу не покидать город и ждать помощи извне. Безусловно, невозможной в случае удара на Ростов-на-Дону, как предлагал Рокоссовский.
Таким образом, казалось бы, напрашивается вывод: отказ от операции «Сатурн» стал ошибкой, не позволившей завершить войну раньше мая 1945 года. Быть может, это и так. Но нужно учитывать еще один важный момент: способность командования РККА проводить масштабные операции на окружение и последующее уничтожение противника. Под Сталинградом удалось блокировать 6-ю армию, разгромив сравнительно слабые румынские и венгерские войска. При реализации плана «Сатурн» необходимо было замкнуть кольцо вокруг по сути целого фронта, включая две танковые армии.
Позволим себе отступление: в последние два десятилетия много пишут о том, что было бы, упреди Красная армия вермахт в нанесении удара летом 1941-го. Указывают на выгодное для наступления стратегическое расположение развернутых на границе войск РККА. Однако в данном случае не уделяется должного внимания едва ли не самому важному вопросу: умению советского командования (на всех уровнях) осуществлять сложные наступательные операции против хорошо подготовленного противника. Так и в данном случае. Да, ударом на Ростов представлялось возможным окружить ГА «Дон» и «А». Но удалось бы разгромить их?
Предоставим слово генералу Сергею Штеменко, в рассматриваемый период первому заместителю начальника Оперативного управления Генштаба. Вспоминая о действиях Закавказского фронта зимой 1943 года против ГА «А», он, в частности, пишет: «Главным силам 1-й танковой армии удалось оторваться от нашей Северной группы войск. Преследование отходящего противника началось недостаточно организованно и с опозданием. Средства связи оказались не подготовленными к управлению наступательными действиями. В итоге уже в первый день преследования части перемешались. Штабы не знали точного положения и состояния своих войск. 58-я армия отстала от соседей и оказалась как бы во втором эшелоне. 5-й гвардейский Донской кавкорпус и танки не смогли опередить пехоту. Командование фронта пыталось навести порядок, но без особого успеха».
Штеменко обращает внимание на еще одну важную проблему, ставящую под вопрос успех плана «Сатурн»: «Длительные разъезды по фронтам начальника Генерального штаба и частая смена начальников Оперативного управления создали у нас атмосферу нервозности, из-за чего нередко нарушалась четкость в работе. За один-два месяца пребывания во главе управления никто не успевал как следует войти в курс дела, врасти в обстановку, а значит, не мог уверенно чувствовать себя при выезде в Ставку с докладом».
Разумеется, отмеченная генералом нервозность, равно как и отсутствие начальника Генштаба в Москве, не способствовала слаженному управлению действующими на юге войсками. Для убедительности картины приведем еще пример, на этот раз из воспоминаний Рокоссовского. Он, правда, пишет не об операции «Сатурн», а о планировании не менее масштабного удара на Гомель и Смоленск во фланг орловской группировке противника зимой 1943-го: «С первого же момента мы столкнулись с огромными трудностями. В нашем распоряжении была единственная одноколейная железная дорога, которую удалось восстановить к этому времени. Она, конечно, не могла справиться с переброской огромного количества войск. Планы перевозок трещали по всем швам. График движения нарушался. Заявки на эшелоны не удовлетворялись, а если и подавались составы, то оказывалось, что вагоны не приспособлены для перевозки личного состава и лошадей».
Нет сомнений, что подобного рода недочеты выявились бы при проведении операции «Сатурн». Другое дело, что неслаженность в работе Генштаба и в системе управления войск, не всегда удовлетворительные действия тыловых служб могли быть компенсированы крайне невыгодным со стратегической точки зрения расположением завязшей на Кавказе группы армий «А».
Недаром Рокоссовский, лучше других знавший и позже не раз писавший об указанных недостатках, все-таки выступил за «Сатурн», в случае успеха которого война могла бы закончиться раньше, а развитие Советского Союза и мира пойти иным, сейчас уже неведомым нам путем.
Но история не терпит сослагательного наклонения. Блестяще же проведенные операции «Уран» и «Малый Сатурн» продемонстрировали мастерство советских войск и сделали нашу Победу неотвратимой.
«Большой Сатурн» и «малый Сатурн»
Помимо операции «Уран» советский Генеральный штаб разработал другую, более крупную по масштабам и задачам наступательную операцию. Называлась она «Сатурн». С.М. Штеменко писал: «Согласно замыслу новому фронту [Юго-Западному], предстояло наступать с плацдарма на правом берегу Дона в районе Серафимовича и вырваться к Тацинской, что позволило бы перехватить железнодорожные и другие пути противника из-под Сталинграда на запад. Затем фронт должен был наступать через Каменск в район Ростова, где и пересекались бы пути отхода немецко-фашистских войск не только из-под Сталинграда, но и с Кавказа… При окончательной доводке общего плана контрнаступления наших войск идея удара на Ростов через Каменск нашла выражение в плане Ставки, известном под кодовым названием «Сатурн». Ударные группировки войск, окружающих противника, были усилены танковыми и механизированными корпусами» .
Обстановка для проведения операции «Сатурн» складывалась весьма благоприятная. Концентрация главных сил группы армий «Б» под Сталинградом привела к тому, что немцы лишились возможности создать сплошную линию обороны против советских войск. Более того, советскому командованию стало известно, что в результате успешного проведения Сталинградской наступательной операции на участке Лихая - Ростов образовалась огромная брешь, не заполненная какими-либо немецкими частями. Отсутствие у противника в непосредственном оперативном тылу резервов создавало дополнительные преимущества для советских войск.
23 ноября Верховный Главнокомандующий отдал представителю Ставки на Юго-Западном фронте A.M. Василевскому распоряжение приступить к подготовке операции «Сатурн». Ее предстояло провести войскам левого крыла Воронежского и Юго-Западного фронтов путем нанесения удара в направлении Миллерово - Ростов. Предполагалось, что успех этой операции может создать условия для полного разгрома всей южной группировки противника на советско-германском фронте. При этом в котле оказывалась не только армия Паулюса, но и 1-я и 4-я танковые, 11-я немецкая армии, 3-я и 4-я румынские, 2-я венгерская и 8-я итальянская армии. Фактически речь шла о достижении решительной победы над вооруженными силами Германии и коренного перелома в ходе Второй мировой войны. Нанести Гитлеру катастрофическое поражение предполагалось уже в течение зимней кампании 1942–1943 гг.
Для выполнения этой важнейшей задачи Ставка сосредотачивала на Воронежском и Юго-Западном фронтах значительные силы. Помимо уже имевшихся там 1-й гвардейской, 5-й танковой, 6-й и 21-й армий, 4-го и 26-го танковых корпусов Юго-Западный фронт дополнительно получал из резерва Ставки 5 стрелковых дивизий, 18-й, 24-й и 25-й танковые и 1-й гвардейский механизированный корпуса, 6 отдельных танковых и 16 артиллерийских и минометных полков. Воронежскому фронту придавались 3 стрелковые дивизии, одна стрелковая бригада, 17-й танковый корпус, 7 артиллерийских и минометных полков. Но и это было еще не все. По решению Ставки 26 ноября для Юго-Западного фронта создавалась 3-я гвардейская армия под командованием генерал-лейтенанта Д.Д. Лелюшенко. К 9 декабря планировалось сформировать и развернуть между 5-й танковой армией и 51-й армией Сталинградского фронта еще одну, 5-ю ударную армию в составе 5 стрелковых дивизий, 7-го танкового и 4-го механизированного корпусов. Командовать новой армией был назначен генерал-лейтенант М.М. Попов. Кроме того, в район боев из резерва Ставки выдвигалась 2-я гвардейская армия. Правда, из-за последней возник спор между командующими фронтами. Эту армию желали заполучить и командующий Сталинградским фронтом А.И. Еременко, и командующий Донским фронтом К.К. Рокоссовский.
Впрочем, наличных сил было более чем достаточно. Войскам Юго-Западного и Воронежского фронтов противостояла только немецкая оперативная группа «Голлидт», броневая мощь которой исчерпывалась 7-й и 11-й танковыми дивизиями, а также 8-я итальянская армия. Как боеспособное соединение, ее вообще можно было не принимать в расчет. Далее до самого Миллерова войска противника отсутствовали. Да и находившаяся в Миллерове оперативная группа «Фреттер-Пико» располагала более чем скромными силами - 30-м армейским корпусом, 3-й горнострелковой и 304-й пехотной дивизиями. Серьезного препятствия для советской танковой лавины она собой не представляла. На защиту Ростова немцы не могли выставить ничего, кроме разрозненных частей гарнизона. Таким образом, как точно подметил Манштейн в своих воспоминаниях, немецкое Главное командование делало все, чтобы план русских по устранению самой крупной ударной силы германской армии удался.
Однако в этот ответственный момент советское командование стало делать одну ошибку за другой. Прежде всего, по признанию A.M. Василевского, Генштаб серьезно просчитался в оценке численности окруженных в Сталинграде немецких войск. До проведения наступательной операции считалось, что в окружении окажутся 85–90 тыс. солдат и офицеров противника. Но вдруг выяснилось, что истинная цифра составляет чуть ли не 350 тыс. человек. В Ставке немедленно появился «призрак Демянска», тяжело давивший на сознание и Верховного Главнокомандующего, и его маршалов. Это давление усиливалось наличием на незначительном удалении от котла немецких армейских групп «Дон» и «Голлидт». Причем последняя находилась от окруженной группировки всего в 40 километрах.
26 ноября в разговоре с А.М. Василевским по прямому проводу Сталин заявил, что «в данное время самой важной и основной задачей является быстрейшая ликвидация окруженной группировки немцев». Это, мол, освободит занятые в ней наши войска для выполнения других заданий по окончательному разгрому врага на южном крыле советско-германского фронта. То есть в тот день впервые на столь высоком уровне было высказано мнение о необходимости отложить проведение операции «Сатурн» на неопределенное время.
29 ноября представитель Ставки на Сталинградском фронте Г.К. Жуков направил Сталину телеграмму. В ней содержались предложения о ходе дальнейших боевых операций: «Немецкое командование, видимо, будет стараться… в кратчайший срок собрать в районе Нижне-Чирская - Котельниково ударную группу для прорыва фронта наших войск в общем направлении на Карповку… Чтобы не допустить соединения нижне-чирской и котельниковской группировок противника со Сталинградской и образования коридора, необходимо:
Как можно быстрее отбросить нижне-чирскую и котельниковскую группировки и создать плотный боевой порядок на линии Обливская - Тормосин - Котельниково. В районе Нижне-Чирская - Котельниково держать две группы танков в качестве резерва;
Окруженную группу противника под Сталинградом разорвать на две части. Для чего… нанести рассекающий удар в направлении Бол. Россошка. Навстречу ему нанести удар в направлении Дубининский, высота 135. На всех остальных участках перейти к обороне… После раскола окруженной группы противника на две части нужно… в первую очередь уничтожить более слабую группу, а затем всеми силами ударить по группе в районе Сталинграда.
№ 02. 29.11.42 г. Жуков».
Далее Г.К. Жуков пишет, что с его соображениями согласился A.M. Василевский и потому решил «временно отказаться» от операции «Сатурн». Вместо удара на Ростов Юго-Западный фронт перенацеливался на удар во фланг тормосинской группировки противника. С этого дня прежний план операции разделялся надвое: операция «Большой Сатурн», предусматривавшая окружение всего южного крыла немецких войск, откладывалась, на смену ей вводилась в действие операция «Малый Сатурн», которая поворачивала главные силы Юго-Западного фронта на юг, в направлении Морозовска. Сталин, следуя своему излюбленному принципу «не предаваться головокружению от успехов», утвердил предложения товарищей Жукова и Василевского.
Интересно, что при этом в Ставке отчего-то сохранялась уверенность в угрозе со стороны нижне-чирской группировки противника. Между тем генерал Голлидт только при полном затмении разума мог решиться пойти в наступление со своими хилыми силами и подставиться тем самым под сокрушающий удар многократно превосходящих войск Юго-Западного фронта. Ничего подобного он не делал. Наоборот, во исполнение предложений Г.К. Жукова на Нижне-Чирскую пошла в наступление 5-я танковая армия. Поскольку здесь была хорошо подготовленная немецкая оборона, то, как отмечал A.M. Василевский: «На левом фланге Юго-Западного фронта 5-й танковой армии, несмотря на все усилия, никак не удавалось выбить врага с плацдарма на левом берегу Дона, у Нижне-Чирской, а также ликвидировать его плацдарм на восточном берегу Чира. Нас продолжало это беспокоить» . И беспокойство это было не напрасным, так как атаки советских войск не мешали генералу Голлидту готовить к переброске на помощь Манштейну свои 7-ю и 11-ю танковые дивизии.
Сам Манштейн считал затею с деблокированием 6-й армии полной безнадегой. Ведь согласно указаниям Гитлера смысл этой операции заключался в удержании Сталинграда. Манштейн же предлагал иной план: «Оставив занятую в ходе летней кампании территорию [которую все равно нельзя было удержать]., можно было бы тяжелый кризис использовать для победы! Для этого следовало организованно отвести войска групп армий «А» и «Дон» из выступающей далеко на восток дуги фронта за нижний Днепр.
Одновременно надо было бы сосредоточить в районе Харькова все имеющиеся в распоряжении командования силы, высвобождаемые в результате сокращения линии фронта. Эта группировка получила бы задачу ударить во фланг силам противника, стремящимся к переправам через Днепр. Таким образом, был бы совершен переход от отступательной к обходной операции, в которой немецкие войска преследовали бы цель прижать противника к морю и там его уничтожить» . «Но, - добавлял Манштейн, - не в характере Гитлера было соглашаться с решением, которое требовало отказа от достижений летней кампании».
Что касается идеи о рассечении группировки Паулюса, то она имела один существенный изъян. Как известно, вокруг Сталинграда и в самом городе летом 1942 года были созданы мощные оборонительные пояса. Немцы обломали себе все зубы, прорывая их в течение четырех месяцев. Теперь Паулюс использовал эти укрепления для организации прочной обороны внутри кольца. А советские войска их атаковали. Что из этого получалось, можно узнать в воспоминаниях A.M. Василевского: «Встречая упорное сопротивление окруженного противника, советские войска вынуждены были приостановить продвижение… Выполняя указания Ставки, мы в первых числах декабря снова попытались расчленить и уничтожить окруженную группировку. Однако и на этот раз сколько-нибудь значительных результатов не достигли. Противник, опираясь на сеть хорошо подготовленных инженерных оборонительных сооружений, яростно сопротивлялся, отвечая ожесточенными контратаками на каждую нашу попытку продвижения» .
Кроме того, в лучших традициях демянского котла, советское командование не мешало немцам наладить «воздушный мост». А.М. Василевский вспоминал, что «мы недооценивали серьезность этой задачи, и ее выполнение носило случайный, разрозненный характер» .
Дебаты по поводу операции «Сатурн» продолжались еще две недели. К тому времени войска Сталинградского и Донского фронтов окончательно увязли в боях с группировкой Паулюса. 12 декабря Манштейн начал наступление из района Котельниково, вызвав в Ставке прилив мрачных настроений. Поэтому 14 декабря было принято окончательное решение: изменить направление главного удара Юго-Западного и левого крыла Воронежского фронтов. Вместо Ростова, в тыл всей группировке противника на южном крыле советско-германского фронта, теперь ставилась задача разгрома только 8-й итальянской армии и выхода в тыл войскам Манштейна. Это и был «Малый Сатурн».
Однако задачу, поставленную перед советскими войсками по плану операции «Малый Сатурн», выполнить не удалось. Потерпев поражение при попытке деблокировать 6-ю армию, Манштейн заметил угрозу со стороны войск Юго-Западного фронта и вывел свою группировку из-под флангового удара. Интересно, что A.M. Василевский посчитал это нашей крупной победой: «В результате наступления Сталинградского фронта с 24 по 31 декабря была окончательно разгромлена 4-я румынская армия, а 57-й танковый корпус противника с большими потерями отброшен на 150 километров» . Что касается удара Юго-Западного фронта, то его войска застряли на линии Тацинская - Морозовск и до Манштейна не дотянулись. Через два с половиной месяца 57-й танковый корпус наряду с прочими частями Манштейна принял активное участие в разгромной для Красной Армии битве за Харьков. Это все были плоды «Малого Сатурна».
Почему же советское командование отказалось от проведения операции «Сатурн» и отложило в долгий ящик окончательный разгром фашистской Германии? A.M. Василевский отвечает на этот вопрос так: «Задержка с ликвидацией войск Паулюса и явилась основной причиной, изменившей оперативную обстановку на Сталинградском и среднедонском направлениях и повлиявшей на дальнейшее развитие операции «Сатурн» . Но такая задержка была неизбежна. Кроме того, Паулюс никуда не собирался уходить. И советское командование об этом знало. Вот, например, Г.К. Жуков в упоминавшейся выше телеграмме Сталину сообщал: «Окруженные немецкие войска сейчас, при создавшейся обстановке, без вспомогательного удара из района Нижне-Чирская - Котельниково на прорыв и выход из окружения не рискнут» . Голлидт никакого вспомогательного удара не планировал. А в отношении Манштейна имелся надежный противовес - операция «Сатурн». Вот мнение A.M. Василевского: «Начнись операция 10 декабря, то вполне возможно предположить, что тот успех, которого добились войска Юго-Западного и левого крыла Воронежского фронтов 16 декабря, исключил бы переход в наступление войск Манштейна 12 декабря на котельниковском направлении» .
Надо сказать, операция «Сатурн» была настолько хороша, что могла начинаться и до 10 декабря, и после 16 декабря. Манштейн на этот счет высказывается абсолютно четко: основная опасность заключалась не в потере 6-й армии, а в том, что группа армий «А» не могла быстро уйти с Кавказа. На Закавказском фронте шла позиционная война. Это значит, что немцам нельзя было обойтись без стационарной установки вооружения, что им приходилось накапливать боеприпасы и продовольствие, создавать различные удобства для войск, тем более необходимые при отсутствии резервов и возможности сменять войска на позициях. Все вышеперечисленное приводило к потере подвижности и маневренности, к значительным затратам времени на подготовку отхода на новые позиции. Манштейн вспоминал свой разговор с начальником штаба группы армий «А», в котором тот называл датой начала возможного отступления 2 января и завершение его только через 25 дней. Кроме того, Гитлер упрямо отклонял все предложения со словом «отступление», играя тем самым на руку своему противнику.
Отказ от операции «Сатурн» был крупнейшей за всю войну ошибкой советского командования. Скажем больше: ошибкой непростительной. Каким же образом эту операцию можно было провести?
Идеальный вариант заключался в синхронном проведении операций «Уран» и «Сатурн». При этом главным было то, что достигалась абсолютная внезапность. Сил имелось достаточно. Удар Сталинградского и Донского фронтов носил функции вспомогательного, а Воронежского и Юго-Западного - главного. Собственно, так и предполагали в Ставке и Генштабе до того, как узнали реальную численность группировки Паулюса.
Главный удар приходился по 8-й итальянской армии, которая, как известно, сразу побежала. Далее оставалось только развивать прорыв специально созданными для этой цели подвижными танково-механизированными и кавалерийскими группировками. Обезопасить фланг от возможного контрудара со стороны группы «Голлидт» можно было путем стремительного выхода ей во фланг и даже тыл через позиции итальянских войск. Кстати, так оно и было 16 декабря. Манштейн вспоминал: «Вследствие развала итальянской армии и бегства почти всех румынских войск на левом фланге группы Голлидта, противник мог продвигаться в направлении переправ через Донец у Белой Калитвы, Каменска и Ворошиловграда, не встречая почти никакого сопротивления. Только в районе Миллерово, как одинокий остров в красном прибое, оказывала сопротивление вновь созданная на правом фланге группы армий «Б» группа Фреттер-Пико. Но все же противник имел возможность по своему усмотрению повернуть на восток для удара в тыл группе Голлидта или группе Мита или же продолжать продвижение на юг, по направлению к Ростову» .
Итак, все опасения, изложенные Г.К. Жуковым в телеграмме от 29 ноября, операция «Сатурн» снимала. Прорыв был бы столь стремительным, что Голлидт и Манштейн не успевали даже подумать о концентрации своих сил, так как в тылах у них уже находились бы советские войска. Добавим, что в ноябре никакой группы «Фреттер-Пико» не существовало и путь на Ростов оставался свободен. Немцы, как говорится, и ахнуть бы не успели, как танки Лелюшенко уже были бы в Ростове и захлопнули невиданный в военной истории капкан.
Конечно, противник предпринял бы попытку вырваться из кольца. Но каковы были его возможности в этом плане? Прежде всего, все опасения советского командования в отношении армии Паулюса являлись беспочвенными. Генерал Паулюс, во-первых, не имел соответствующего приказа Гитлера. А во-вторых, прекращение подвоза топлива превратило технику 6-й армии в груду мертвого металла. Паулюс докладывал в Ставку фюрера, что для его танков, из которых еще около 100 были готовы к бою, горючего имелось не более чем на 30 километров хода. В целях обеспечения прорыва требовалось перебросить по «воздушному мосту» 4000 тонн бензина. Конечно, это было невозможно. Именно такой аргумент неизменно использовал Гитлер в спорах с Манштейном, настаивавшим на немедленном отходе 6-й армии из Сталинграда: «Чего же вы, собственно, хотите, ведь у Паулюса горючего хватит только на 20 или в лучшем случае 30 километров; он ведь сам докладывает, что в настоящее время вовсе не может осуществить прорыв». Таким образом, мнению командования группы армий «Б», с одной стороны, противостояло мнение Главного командования, которое в качестве обязательного условия прорыва выдвигало удержание 6-й армией остальных участков фронта под Сталинградом, и, с другой стороны, мнение командования армии, которое считало прорыв невозможным ввиду недостатка топлива.
Через Ростов проходили коммуникации не только 6-й армии, но и 4-й румынской и 4-й танковой армий, всей группы армий «А». Соответственно, без горючего оставался не только Паулюс. Между тем расстояние от позиций группы армий «А» на Кавказе до Ростова составляло не менее 600 километров. 4-ю танковую армию, стоявшую южнее Сталинграда, от Ростова отделяло 400 километров. Запас хода основного немецкого танка T-IV не превышал 110 километров. Так что даже без учета противодействия советских войск все эти немецкие армии все равно не дошли бы до Ростова. У них просто не было достаточных для успешного прорыва запасов горючего. И никакой «воздушный мост» не мог спасти такую массу войск.
Но если существовал риск, что немцы все-таки каким-то образом дойдут до Ростова, то его можно было предотвратить. Поскольку на таком удалении от главного театра военных действий немецких войск почти не имелось, Красная Армия могла выдвинуться вперед и захватить переправы через Днепр, обеспечивавшие снабжение южного крыла вермахта. В этом случае дистанция прорыва для 4-й танковой армии значительно удлинялась и достигала 700 километров, а для группы армий «А» - почти 900 километров. Очевидно, что немецкие войска оказывались в безнадежном положении.
A.M. Василевский утверждает, что Юго-Западный и Воронежский фронты в ноябре 1942 года не были готовы к проведению операции «Сатурн». Тогда ее следовало начинать, как он сам предполагал, 10 декабря. Или 16 декабря, когда она действительно началась в виде «Малого Сатурна». При таком образе действий Красной Армии войска Голлидта и Манштейна не успевали бы выскользнуть из ловушки. Дело в том, что расстояние от позиций 8-й итальянской армии до Ростова составляло только 300 километров. Поэтому советские войска продвигались бы с опережением в 100 километров. Таким образом, достигалось не только взятие Ростова. В марте 1943 года немцам было бы уже фактически нечем проводить наступательную операцию в районе Харькова. Никогда в истории нашей армии не появилось бы позорное пятно еще одного харьковского разгрома.
Наконец, интересно рассмотреть потенциальные возможности крушения всего южного крыла немецкого Восточного фронта. Прежде всего, потеря такой массы войск не могла быть ничем восполнена. Не было у немцев таких резервов. В линии фронта появлялся разрыв шириной чуть ли не в 400 километров. Опять же, закрывать его было нечем. Красная Армия, не в пример вермахту обладавшая значительными резервами, могла решать две задачи: разгром группы армий «Центр» путем удара во фланг и тыл и развитие глубокого прорыва на Украине, освобождение без особых потерь Киева, Донбасса, Крыма, выход к государственной границе. Фактически речь шла о полном разгроме фашистской Германии еще в 1943 году А штурм Берлина состоялся бы весной сорок четвертого.
Советская история определяет Сталинградскую битву как коренной перелом в ходе войны. В действительности следует признать, что до коренного перелома оставалось еще более полугода. Потеря войск сталинградской группировки, конечно, была катастрофой, но не настолько тяжелой, чтобы реально переломить ход боевых действий в пользу Красной Армии и окончательно сломить вермахт и в психологическом, и в военном отношении. Ведь чуть больше месяца прошло с момента капитуляции Паулюса, когда советские войска потерпели тяжелейшее поражение в битве за Харьков и отступили под натиском противника на 150–200 километров к востоку. Все это, увы, не говорит в пользу утверждения о коренном переломе.
Действительный коренной перелом наступил после Курской битвы. Тогда германская армия в самом деле потерпела окончательное поражение и полностью утратила инициативу. Но произойти это могло гораздо раньше. Подтверждением тому могут послужить слова Манштейна: «Как бы ни велик был выигрыш советских войск, все же им не удалось достичь решающей победы - уничтожения всего южного фланга, что мы ничем не могли бы компенсировать».
| |
- Очиров Уташ Борисович
Ключевые слова
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА / КОРЕННОЙ ПЕРЕЛОМ / СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА / ОПЕРАЦИЯ "САТУРН" / СРЕДНЕДОНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ / ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ (2-ГО ФОРМИРОВАНИЯ) / АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ ВАСИЛЕВСКИЙ / НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ ВАТУТИН / GREAT PATRIOTIC WAR / RADICAL TURNING POINT / STALINGRAD BATTLE / OPERATION "SATURN" / MIDDLE DON OPERATION / SOUTHWESTERN FRONT (OF THE 2ND FORMATION) / ALEXANDER MIKHAYLOVICH VASILEVSKY / NIKOLAY FEDOROVICH VATUTINАннотация научной статьи по истории и историческим наукам, автор научной работы - Очиров Уташ Борисович
Статья посвящена анализу плана одной из важнейших операций, способствовавших коренному перелому Великой Отечественной войны . Первоначально этот план, задуманный как развитие операции «Уран», завершившейся окружением 6-й армии Паулюса в Сталинграде, назывался «Сатурн», однако после создания усеченного варианта «Малый Сатурн» его стали именовать «Большой Сатурн». Основной целью «Сатурна» было проведение стратегического наступления силами четырех-пяти армий со Среднего Дона и Чира в направлении Ростова-на-Дону, чтобы тем самым отрезать выход с Кавказа вражеским группам армий «А» и «Дон». Анализ сил Сталинградского фронта, осуществленный в статье, показывает, что имеющихся в резерве фронта войск было достаточно для отражения удара. Переведенные сюда стратегические резервы оказались избыточными, а их наступление на Ростов оказалось безуспешным, в то время как их применение по плану «Сатурн» привело бы к несомненному успеху, в результате этого Манштейну удалось вывести из ловушки через Ростов большую часть войск групп армий «А» и «Дон», которые сыграли ключевую роль в поражении советских войск в Донбассе и под Харьковом в ходе стратегических операций «Звезда» и «Скачок».
Похожие темы научных работ по истории и историческим наукам, автор научной работы - Очиров Уташ Борисович,
-
Бои частей Сталинградского фронта против 7-го румынского армейского корпуса в калмыцких степях 20-30 ноября 1942 года
2018 / Малютина Татьяна Петровна -
Совершенствование системы тылового обеспечения Красной Армии в операциях на Сталинградском направлении
2012 / Моисеев С. И. -
Строительство Донского и Сталинградского оборонительных рубежей в 1941-1942 г. Г
2014 / Медведев Максим Валерьевич -
Предвестники катастрофы на юге: поражения РККА в Крыму и под Харьковом в мае 1942 г
2016 / Афанасенко Владимир Иванович
THE OPERATION “BIG SATURN”: PLAN AND IMPLEMENTATION OPPORTUNITIES
The article analyzes the plan of one of the most important operations of a radical turning point in the course of the Great Patriotic War . Initially, the plan, conceived as the development of Operation “Uranus” and resulted in the encirclement of the 6 t h Army headed by Field Marshall Paulus at Stalingrad, was called “Saturn”. However, after creating a shortened version of the name “Small Saturn”, it was called “Big Saturn”. The main purpose of “Saturn” was to conduct the strategic offensive with the help of four or five armies from middle Don and Chir towards Rostov-on-Don to withdraw the enemy Army Group “Don” and Army Group “A” from the Caucasus. The enemy army groups consisted of almost a third of the units of the Wehrmacht and its allies, who fought against the Soviet Union and their defeat or delay on the Taman Peninsula where there was no port capacity for rapid evacuation of such a large group of people, equipment and supplies, could significantly change the balance of forces on the Eastern front. Unfortunately, the Сhief of the General Staff of the Red Army Alexander Vasilevsky, who was initially in charge of the “Saturn” operation as the representative of Stavka (General Headquarters), was appointed by Stalin in late November as a coordinator of the Soviet troops, achieving the encirclement of the surrounded Paulus’s grouping. Vasilevsky, using his authority, managed to transfer a significant part of the strategic reserves from the middle Don direction firstly to the Stalingrad direction and then to the Kotelnikovsky direction against unlocking grouping of Manstein. The analysis of the forces of the Stalingrad Front, given in the article, shows that there were enough troops to repulse an attack. The transferred strategic reserves proved to be redundant, and their offensive on Rostov failed, while their usage according to the plan “Saturn” would have led to undeniable success. As a result, Manstein managed to get out of the trap through Rostov a large part of forces of Army Group “A” and Army Group “Don”, which played a key role in the defeat of Soviet forces in Donbass and under Kharkov during strategic Operations “Zvezda” and “Scachok”.
Текст научной работы на тему «Операция «Большой Сатурн»: план и возможности реализации»
DOI: 10.15688/^0^4.2015.4.5
УДК 94(47).084.8 ББК 63.3(2)622.12
ОПЕРАЦИЯ «БОЛЬШОЙ САТУРН»: ПЛАН И ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
Уташ Борисович Очиров
Доктор исторических наук, доцент,
ведущий научный сотрудник отдела истории и археологии, Калмыцкий институт гуманитарных исследований РАН [email protected]
ул. Илишкина, 8, 358000 г. Элиста, Российская Федерация
Аннотация. Статья посвящена анализу плана одной из важнейших операций, способствовавших коренному перелому Великой Отечественной войны. Первоначально этот план, задуманный как развитие операции «Уран», завершившейся окружением 6-й армии Паулюса в Сталинграде, назывался «Сатурн», однако после создания усеченного варианта «Малый Сатурн» его стали именовать «Большой Сатурн». Основной целью «Сатурна» было проведение стратегического наступления силами четырех-пяти армий со Среднего Дона и Чира в направлении Ростова-на-Дону, чтобы тем самым отрезать выход с Кавказа вражеским группам армий «А» и «Дон».
Анализ сил Сталинградского фронта, осуществленный в статье, показывает, что имеющихся в резерве фронта войск было достаточно для отражения удара. Переведенные сюда стратегические резервы оказались избыточными, а их наступление на Ростов оказалось безуспешным, в то время как их применение по плану «Сатурн» привело бы к несомненному успеху, в результате этого Манштейну удалось вывести из ловушки через Ростов большую часть войск групп армий «А» и «Дон», которые сыграли ключевую роль в поражении советских войск в Донбассе и под Харьковом в ходе стратегических операций «Звезда» и «Скачок».
Ключевые слова: Великая Отечественная война, коренной перелом, Сталинградская битва, операция «Сатурн», Среднедонская операция, Юго-Западный фронт (2-го формирования), Александр Михайлович Василевский, Николай Федорович Ватутин.
План операции «Сатурн» наряду с планами «Уран», «Марс», «Полярная звезда» и др. входил в цикл стратегических операций, задуманных командованием Красной армии осенью 1942 г. - зимой 1943 г. для осуществле-„ч ния коренного перелома в Великой Отече-® ственной войне.
р^ Замысел этого наступления на Среднем ^ Дону, основной целью которого был удар на ^ Ростов и отрезание южного крыла от основ-ф ных сил Восточного фронта вермахта, начал © обсуждаться в Ставке Верховного главноко-
мандования еще до начала «Урана». По утверждению Г.К. Жукова, этот план был не только задуман в Ставке, но и якобы составлен ею, подписан им, Василевским и даже Сталиным . Последнее утверждение вызывает определенные вопросы, поскольку реальным разработчиком «Сатурна» была вовсе не Ставка, а штаб Юго-Западного фронта и группа представителей Верховного главнокомандующего во главе с начальником Генштаба А.М. Василевским. Кроме того, Василевский всю вторую половину но-
ября и почти весь декабрь провел на фронтах южного направления (за исключением 1718 ноября, когда он был вызван к Сталину для обсуждения письма генерал-майора В.Т. Вольского), в то время как Жуков, руководя «Марсом», с 17 ноября находился на фронтах западного направления и после 18 ноября не встречался с Василевским до конца года, а со Сталиным виделся лишь 6-8 декабря (см.: ), когда обсуждал вопросы повторного наступления в рамках операции «Марс», а план «Сатурна» уже был давно утвержден. Возможно, что Жуков в своем интервью вел речь о первоначальном замысле, который в реальности отличался от утвержденного Ставкой ВГК 3 декабря. В любом случае не приходится сомневаться в том, что Жуков был хорошо осведомлен о сути замысла «Сатурна» и сыграл свою роль в его обсуждении и эволюции.
В советской историографии больше был известен усеченный вариант этого плана, получивший наименование «Малый Сатурн» и реализованный в ходе Среднедонской операции. В этом сражении войска Юго-Западного фронта разгромили 8-ю итальянскую армию и «боковско-морозовскую группировку противника», оттянув тем самым часть группировки фельдмаршала Э. фон Манштейна с котельниковского направления, что в конечном итоге способствовало поражению немецких войск в Сталинграде . Первый план операции для отличия от «Малого Сатурна» после этого стали именовать «Большим Сатурном». Следует также заметить, что и этот вариант советское командование пыталось внедрить в жизнь, но успеха не достигло.
Конкретная разработка плана наступления на Среднем Дону началась лишь 24 ноября по прямому указанию И.В. Сталина, который и дал этому плану название «Сатурн» . Есть свидетельства, что определенные элементы «Сатурна» разрабатывались ранее Ставкой или Генштабом, например, вышеупомянутое свидетельство Г.К. Жукова, которое могло иметь место только 6 ноября или в конце октября (см.: ). М.И. Казаков, являвшийся в описываемый период начальником штаба Воронежского фронта, в своих воспоминаниях писал о том, что
указания на разработку своей части плана Среднедонской операции командующий фронтом генерал-лейтенант Ф.И. Голиков получил 13 ноября. При этом наступление предлагалось осуществить двумя группировками: силами 6-й армии Воронежского фронта и частично 1-й гвардейской армии Юго-Западного фронта (поддержанные тремя танковыми корпусами) с осетровского плацдарма в направлении Кантемировка - Чертково - Миллеро-во и силами части 1-й гвардейской и 5-й танковой армий из района Вешенской в направлении на Морозовск. На втором этапе операции после ввода свежих сил из резерва Ставки (нескольких танковых корпусов и общевойсковой армии) Юго-Западный фронт осуществлял с рубежа Чертково - Миллерово удар на Ростов .
Однако на деле конкретную разработку «Сатурна» отложили до получения первых результатов операции «Уран» и установления внешнего фронта окружения, по крайней мере той его части, которая могла использоваться в качестве исходных рубежей для удара на Ростов. Тот же М.И. Казаков признавался, что, получив сведения о замысле Средне-донской операции, он остался в недоумении, поскольку ему «трудно было воспринять такой размах операции. Ведь мы еще не были ориентированы тогда об общих стратегических замыслах Ставки на осенне-зимнюю кампанию... Только после 20 ноября... перед нами по-настоящему раскрылся глубокий смысл нашей операции» . Действительно, после успеха «Урана» левый фланг атакующей группировки оказался обезопасенным от возможного удара противника. Мало того, новые исходные рубежи для наступления левофланговой группировки 1-й гвардейской армии (будущей 3-й гвардейской армии) и 5-й танковой армии по сравнению с Вешенской оказались на 30-60 км ближе к Морозовской и Ростову, а конфигурация линии фронта стала оптимальной для проведения операций на окружение.
Начать практическую разработку плана «Сатурн» Сталин решил вечером 23 ноября, отдав соответствующий приказ Василевскому, когда получил сообщение о том, что части Юго-Западного и Сталинградского фронтов соединились под Калачом, замкнув коль-
цо окружения вокруг группировки Ф. Паулю-са, хотя внешний фронт окружения еще не установился и советские войска прикрывали на нем лишь 265 км из 450 . Такая поспешность (ведь было еще не совсем ясно, с каких рубежей будут наступать войска 5-й танковой армии П.Л. Романенко) была вызвана необходимостью скорейшей реализации преимуществ сложившейся оперативной ситуации. У немцев не было оперативных резервов в этом районе, особенно на направлении Ростов - Морозовск, и после окружения 6-й армии Паулюса новый фронт пришлось закрывать командами выздоравливающих и отпускников, тыловыми комендатурами, строителями, железнодорожниками, аэродромной обслугой, маршевыми ротами, отрядами коллаборационистов и т. п. . Чтобы закрыть образовавшиеся прорехи, командованию группы армий «Б» пришлось «ограбить» тылы соседних армий и забрать у них последние резервы. Например, для того чтобы «сцементировать» участок нового фронта по берегу р. Кривой, пришлось из тыла 2-й венгерской армии перебросить 17-й армейский корпус вермахта . Для противодействия новому наступлению советских войск группа армий «Б» резервов фактически не имела. Соединения, которые Главное командование вермахта собирало в соседних группах армий и даже в Европе для переброски на Дон, предназначались для деблокирования армии Паулюса. На направлении Миллерово -Ростов войск не было. Таким образом, Юго-Западный фронт имел благоприятную возможность одним ударом захлопнуть в ловушке группу армий «А» и вновь формируемую группу армий «Дон».
Практическую разработку плана осуществлял штаб Юго-Западного фронта во главе с командующим Н.Ф. Ватутиным при участии представителей Ставки ВГК - начальника артиллерии Красной армии Н.Н. Воронова и командующего ВВС Красной армии А.А. Новикова и под общим руководством начальника Генштаба А. М. Василевского. Несколько необычный выбор разработчика (в большинстве случаев такие крупные стратегические операции разрабатывались Генштабом при участии управлений задействованных фронтов) следует объяснять двумя
причинами: во-первых, уже упомянутой срочностью операции; во-вторых, высокой степенью доверия со стороны Генштаба и самого Василевского к его бывшему шефу - Ватутину, занимавшему в 1940-1941 гг. посты начальника Оперативного управления, 1-го зам. начальника (по оперативным вопросам и вопросам устройства тыла) и и. о. начальника Генштаба.
В ходе разработки «Сатурна» все три представителя Ставки ВГК лично проводили рекогносцировки, рискуя жизнью. Например, 24 ноября они вместе со своими порученцами и секретными документами вылетели в полосу соседнего Воронежского фронта на семи У-2, которые в сгустившемся тумане заблудились и были вынуждены совершить аварийные посадки. А ведь случай попадания в плен высокопоставленного советского генерала подобным путем уже имел место в апреле 1942 г., когда заблудившийся летчик доставил немцам прямо на аэродром бывшего начальника 2-го управления ГРУ, назначенного командующим 48-й армией генерал-майора А.Г. Самохина. Однако временной фактор вынудил представителей Ставки ВГК пойти на риск .
27 ноября во время переговоров Сталина с Василевским по телеграфу Верховный главнокомандующий выразил беспокойство тем, что некому «объединять действия Донцова (командующего Донским фронтом генерал-лейтенанта К.К. Рокоссовского) и Иванова (командующего Сталинградским фронтом генерал-полковника А.И. Еременко)». Поэтому он приказал Василевскому сосредоточиться на завершении разгрома группировки Пау-люса «и не отвлекаться ни на какие другие дела», а представителем Ставки ВГК на Юго-Западном и Воронежском фронтах назначили генерал-полковника артиллерии Н.Н. Воронова . Для «Сатурна» это решение позже имело роковые последствия.
2 декабря штаб Юго-Западного фронта во главе с командующим фронтом генерал-лейтенантом Н.Ф. Ватутиным и начальником оперативного управления фронта генерал-майором С.П. Ивановым завершил разработку плана операции и передал его в Ставку, которая на следующий день утвердила его без изменений и назначила начало «Сатурна» на
10 декабря . Согласно этому плану войска Юго-Западного фронта (5-я танковая армия генерал-лейтенанта П.Л. Романенко, 1-я гвардейская армия генерал-лейтенанта В.И. Кузнецова, выделенная из состава последней 3-я гвардейская армия генерал-лейтенанта Д.Д. Лелюшенко) и 6-я армия генерал-лейтенанта Ф.М. Харитонова Воронежского фронта образовали четыре ударные группировки, которые должны были разгромить 8-ю (итальянскую) армию, остатки 3-й румынской армии и 48-й танковый корпус вермахта .
Первая группировка концентрировалась на осетровском плацдарме и близлежащих районах для нанесения удара в южном направлении, на Миллерово. В ее состав должны были войти 6-я армия Воронежского фронта (пять стрелковых дивизий, стрелковая бригада и два танковых корпуса, все, кроме 127-й стрелковой дивизии, перебрасывались из резерва или других участков фронта) и правый фланг 1-й гвардейской армии (шесть стрелковых дивизий и танковый корпус, все, кроме 1-й стрелковой дивизии, перебрасывались из резерва), сконцентрировавшие большую часть своих сил на узком участке. Левофланговые части 1-й гвардейской армии (часть 1-й и 153-я стрелковые дивизии) должны были нанести два вспомогательных удара - в районе Замо-стья и хутора Варварин, чтобы, соединившись с главной группировкой, замкнуть несколько мелких «котлов». В резерве армии оставалась 22-я мотострелковая бригада (в начале декабря передана 3-й гвардейской армии).
В состав 6-й армии из резерва Ставки или других участков фронта перебрасывались 15-й стрелковый корпус (172, 267, 350-я стрелковые дивизии), 160-я стрелковая дивизия, 106-я стрелковая бригада, 17-й и 25-й танковые корпуса, 115-я танковая бригада, 82-й и 212-й танковые полки. Поддержку наступлению обеспечивали 12 артиллерийских полков, в том числе 3 гаубичных, 2 полка РСЗО, инженерная бригада специального назначения и др. . Для того чтобы дать командованию армии возможность полностью сосредоточиться на участии в «Сатурне», остальные ее соединения, занимавшие позиции по Дону напротив итальянского Альпийского корпуса и 2-й венгерской армии, было решено
вывести из состава 6-й армии вместе с занимаемыми ими участками. В начале декабря 309-ю стрелковую дивизию передали в состав 40-й армии, 219-ю и 270-ю стрелковые дивизии - в состав вновь формируемого 18-го стрелкового корпуса, 1-ю истребительную дивизию вывели в резерв фронта .
На усиление 1-й гвардейской армии, созданной 5 ноября путем переименования 63-й армии и присоединения к ней всей 4-й резервной армии, прибывшей из резерва Ставки ВГК в начале декабря и состоявшей из 4-го гвардейского (35-я и 41-я гвардейские, 195-я стрелковые дивизии) и 6-го гвардейского (38-я и 44-я гвардейские стрелковые дивизии) стрелковых корпусов, 24 ноября прибыл из Тати-щевского танкового лагеря 18-й танковый корпус, а также два танковых полка и два мотоциклетных батальона. В тылу 1-й гвардейской армии, в районе с. Калач-Воронежский, в 50-60 км от осетровского плацдарма планировалось развертывание 24-го танкового (прибыл в Калач из Тамбовского танкового лагеря 9 декабря) и 6-го механизированного (убыл 8 декабря из Костеревского танкового лагеря, но 13 декабря был перенаправлен в другой район) корпусов, которые приберегались для второго этапа «Сатурна» - броска на Лихую и далее на Ростов .
Поддержку наступлению должны были обеспечить артиллерийская дивизия, 2 корпусных артиллерийских полка, 5 минометных полков, 3 полка и 10 отдельных дивизионов РСЗО . Следует заметить, что возможности для контрбатарейной борьбы у итальянцев были весьма слабые. Артиллерийские полки были вооружены 75-мм пушками образца 1918 г. (некоторые части имели несколько 100-мм пушек образца 1917 г.), пехотные полки - 65-мм пушками образца 1917 г. и 81-мм минометами. Кроме того, артиллерию имели подразделения ПВО, вооруженные 20-мм зенитками, малоэффективными против пикировщиков и бронированных «илов», и противотанковые батареи, вооруженные 47-мм орудиями, практически бесполезными против Т-34 и КВ. Их возможности для противостояния современным советским 122-мм М-30 и А-19, 152-мм М-10 и МЛ-20, принятым на вооружение в 19371938 гг. (не говоря уже о «катюшах» и других системах залпового огня), были практически
равны нулю. Поэтому состав артиллерийской группировки подкорректировали в сторону уменьшения. К середине декабря в составе всей 1-й гвардейской армии были артиллерийская (не полностью) и зенитно-артиллерийская дивизии, отдельные артиллерийские части (всего 9 полков и 2 отдельных дивизиона), 2 полка и 12 отдельных дивизионов РСЗО, в том числе 10 тяжелых, инженерно-саперная бригада и т. д. .
1-й гвардейской и 6-й армиям противостояла 8-я итальянская армия генерала Итало Гарибольди, в отличие от советских войск равномерно растянутая на всем протяжении фронта вдоль р. Дон. На левом фланге находился элитный Альпийский корпус (2-я «Три-дентина», 3-я «Джулия», 4-я «Кунеэнзе» альпийские дивизии), который в предстоящем сражении избежал окружения и был разгромлен лишь в январе 1943 г. в ходе Острогожс-ко-Россошанской операции. В районе осетров-ского плацдарма и близлежащих территорий между р. Черная Калитва и Богучарка был развернут 2-й итальянский армейский корпус (298-я немецкая, 3-я «Равенна» горнострелковая и 5-я «Коссерия» пехотная итальянские дивизии, бригада чернорубашечников «23 марта»). Напротив Замостья, в районе между Богучаркой и Сухим Донцом, занимал позиции 35-й итальянский армейский корпус (9-я «Пасубио» моторизованная дивизия и бригада чернорубашечников «3 января»). Еще дальше к востоку, вплоть до района напротив Ве-шенской, стоял 29-й немецкий армейский корпус, состоявший из итальянских дивизий (52-я «Торино» моторизованная, 3-я «Амедео Дука д"Аоста» мобильная, 2-я «Сфорцеска» горнострелковая) .
За звучными и красивыми названиями итальянских соединений прятались низкая боеспособность и плохое качество вооружения и техники. Например, горнострелковыми реально были только кадровые альпийские дивизии. «Сфорцеска» и «Равенна» де-факто были обычными пехотными соединениями, состоявшими из двух пехотных и одного артиллерийского полка. Такими же соединениями были моторизованные дивизии «Пасубио» и «Торино», вся моторизация которых заключалась в перевозке военнослужащих на гражданских грузовиках. Более или менее элитной
дивизией являлась 3-я мобильная «Амедео Дука д"Аоста», состоявшая из двух полков кавалерии, полка берсальеров и полка артиллерии, но таких соединений во всех итальянских вооруженных силах было всего три. О боевых качествах итальянцев хорошо говорит тот факт, что они в течение двух недель даже не заметили переброски на крошечный (4x6 км) осетровский плацдарм нескольких дивизий и наведения нескольких мостов большой грузоподъемности, через которые в первый же день были введены в прорыв три танковых корпуса . Боеспособность 298-й немецкой дивизии была, конечно же, выше, но в составе 8-й армии она была единственной и находилась в стороне от осетров-ского плацдарма (в районе Богучара).
Вторая группировка развертывалась на левом фланге вновь формируемой (вернее, выделенной из 1-й гвардейской армии «левофланговой группы») 3-й гвардейской армии (пять стрелковых дивизий и механизированный корпус) к востоку от Боковской для нанесения удара на запад, в район Миллерово. Все дивизии, как ударной боковской группировки (14-й стрелковый корпус: 14-я и 50-я гвардейские, 159-я стрелковая дивизии; 203-я и 266-я стрелковые дивизии), так и прикрывающие ее правый фланг 197-я и 278-я стрелковые дивизии, были из числа участвовавших в операции «Уран» и последующих боях и понесли потери, не восполненные к середине декабря. «Свежими» в составе 3-й гвардейской армии были лишь 1-й гвардейский механизированный корпус, завершивший свое переформирование в Татищевском танковом лагере лишь в ноябре 1942 г. и к началу декабря даже не успевший переправиться на южный берег Дона, три танковых полка и два мотоциклетных батальона.
Поддержку наступлению должны были обеспечить четыре артиллерийских (в том числе два гаубичных) и два минометных полка. Боеспособность противника на этом участке фронта наше командование оценивало как низкую, поэтому создавать крупную артиллерийскую группировку здесь не планировалось. Однако после сильных ударов 294-й дивизии в районе Боковской и Астахова артиллерию на этом направлении усилили. К середине декабря в составе 3-й гвардейской армии было 16 артиллерийских полков (в том числе 3 га-
убичных и 4 зенитных), 2 минометных полка, полк и 2 отдельных дивизиона РСЗО, инженерно-минная бригада и др. , большая часть которых была сконцентрирована в районе Астахов - Боковская - Краснокутская.
Войскам Лелюшенко противостояла оперативная группа «Холлидт» (сформирована на базе управления 17-го немецкого армейского корпуса) - северное крыло 3-й румынской армии (командующий - генерал-лейтенант Петре Думитреску). К северу от Боковской был развернут 1-й румынский армейский корпус: 7-я и 11-я румынские пехотные дивизии, избежавшие разгрома во время «Урана», и остатки 9-й румынской пехотной дивизии. Для «цементирования» румынских позиций с ними попеременно были поставлены части 62-й и 294-й немецких пехотных дивизий, переброшенных из тыла. К югу от Боковской находились позиции 2-го румынского армейского корпуса, на которых вперемешку стояли остатки немецкой 22-й танковой, румынских 1-й танковой, 7-й кавалерийской, 14-й пехотной дивизий, 5-го румынского корпуса . Соединения, входившие во 2-й румынский корпус, попали под «каток» «Урана», понесли большие потери, и их боеспособность к началу декабря была не очень высокой.
Таким образом, эти две группировки должны были замкнуть кольцо окружения вокруг 1-го румынского, 29-го немецкого, 2-го и 35-го итальянских корпусов. Всего в окружение должны были попасть 10 дивизий: 3 немецкие (62, 294 и 298-я пехотные), 2 румынские (7-я и 11-я пехотные), 5 итальянских (2, 3, 9, 52-я пехотные и 3-я мобильная), а также две бригады чернорубашечников «3 января» и «23 марта». Одновременно часть сил 3-й гвардейской армии после прорыва поворачивала на юг, в районы Ильинки (на Калитве) и Милютинской, чтобы соединиться с войсками 5-й танковой армии и окружить 2-й румынский корпус и сводную группу «Шпанг» 3-й румынской армии.
Третья и четвертая группировки, формировавшиеся в составе 5-й танковой армии, именовались Левой и Правой группами. Левая группа, состоявшая из 119-й и 333-й стрелковых дивизий, 3-го гвардейского кавалерийского и 1-го танкового корпусов, должна была форсировать Чир и осуществить прорыв на участке Нижне-Чирская - Островская. Правая группа, состоявшая из 40-й, 47-й гвардей-
ских, 321-й, 346-й стрелковых дивизий, 8-го кавалерийского и 5-го механизированного корпусов, 8-й гвардейской танковой бригады, должна была форсировать Чир и осуществить прорыв на участке между Обливской и Караиче-вом. Поддержку ей по плану должны были оказать двенадцать артиллерийских полков (в том числе два гаубичных и семь противотанковых), один минометный полк и два полка РСЗО .
Угроза возможных танковых контратак противника обусловила преобладание в составе артиллерии истребительно-противотанко-вых полков, и это решение оказалось правильным, несмотря на серьезную ошибку нашей разведки. По ее данным, тормосинская группировка состояла из частей 14-й танковой и 295-й пехотной дивизий, которые на самом деле остались в сталинградском «котле». Фактически оборону по Нижнему и Среднему Чиру держали спешно сформированные сводные группы «Шпанг» (части 213-й и 403-й охранных дивизий), «Штахель» (8-я авиаполевая дивизия, усиленная полевыми подразделениями и зенитными частями 8-го авиакорпуса), «Шмидт» (гарнизон Суровикино), «Вайке» (тыловики, охранники и эстонские полицаи), «Зелле» (артиллеристы, тыловики), «Штумпфельд» (семь полевых школ 6-й армии офицеров, унтер-офицеров, специалистов, 62-й моторизованный дивизион, команда химиков и др.), «Адам» (избежавшие окружения батальоны и роты 6-й армии, 6-й железнодорожный полк, тыловики, охранники), «Хайль-ман». Все эти группы составляли южное крыло 3-й румынской армии и подчинялись ей напрямую. Танков и САУ, собранных по принципу «с бору по сосенке», в них было мало. Самыми крупными панцер-подразделениями являлись рота 301-го танкового батальона и 376-й танкоистребительный отряд, и угроза танковых ударов от них была невелика.
Однако в конце ноября на Нижний Чир прибыло управление 48-го танкового корпуса, которое взяло под свое управление группы «Хайльман» и «Адам», захватившие важные плацдармы в районе Верхне-Чирского и Рыч-ковского: на левом (северном) берегу Чира и левом (восточном) берегу Дона, причем с действующим мостом. С этого рубежа немцы могли произвести деблокирование 6-й ар-
мии, причем расстояние отсюда до войск Па-улюса было вдвое меньше, чем от Котельни-ково. Манштейн, разрабатывая операцию «Винтергевиттер», планировал один из ударов провести с этого плацдарма (или, как один из вариантов, даже главный удар с переброской туда всего 57-го танкового корпуса) . Поэтому он перевел 48-й танковый корпус в 4-ю танковую армию генерал-полковника Германа Гота и усилил его мощными резервами: 1 декабря прибыла 336-я пехотная дивизия, 4 декабря - 7-я авиаполевая, а 6 декабря в Морозовске завершила выгрузку 11-я танковая дивизия, переброшенная с орловского направления. Через неделю на этой же железной дороге должна была произвести выгрузку 17-я танковая дивизия, выведенная из-под Орла .
В условиях, когда тормосинская группировка на глазах превращалась в танковый корпус, ошибка наших разведчиков послужила благом: если бы Правой группе удалось бы прорвать фронт и уйти в прорыв, то парировать угрозы танковых контратак как с левого фланга (11-й танковой дивизии), так и с правого фланга (22-й танковой дивизии) можно было только путем концентрации на опасных направлениях противотанковых полков. Нашему командованию удалось собрать планируемые силы: к середине декабря в составе 5-й танковой армии было восемнадцать артиллерийских полков (в том числе восемь противотанковых и шесть зенитных), два минометных полка, два полка и дивизион РСЗО, инженерная бригада специального назначения и др. .
По плану обе группы должны были соединиться в районах Верхне-Аксеновский, Тормосин и Кондаков, составив тем самым три кольца окружения, в которых предполагалось уничтожить расчлененную тормосинскую группировку противника. Одновременно с этим Правая группа должна была соединиться с частями 3-й гвардейской армии в районе Ильинки и Милютинской, замыкая в кольца окружения остатки 2-го румынского корпуса. Однако главный удар Правая группа 5-й танковой армии наносила вдоль железной дороги по направлению Чернышковский - Морозо-вская - Тацинская к Белой Калитве и Усть-Быстрянской на Северском Донце. Основной удар Левой группы пролегал вдоль се-
верного берега Дона через Цимлянскую к Константиновской.
К исходу третьего дня операции «Сатурн» четыре танковых и два механизированных корпуса должны были сконцентрироваться в районе Миллерово - Беловодск. Два танковых корпуса, развернутые в районе Беловод-ска, предназначались для наступления на Ворошиловград, два танковых и два механизированных корпуса, развернутые вокруг Мил-лерово, предназначались для наступления на Лихую. За Северским Донцом эта группировка должна была соединиться с тремя мобильными корпусами 5-й танковой армии (танковый и два кавалерийских корпуса), наступающими от рубежа Белая Калитва - Усть-Быс-трянская на рубеж Лихая - Шахты. Атаке Правой группы должна была содействовать Левая группа, продолжающая движение вдоль северного берега Дона к Новочеркасску . Для развития удара в направлении Ростов - Таганрог предполагалось использовать 6-й механизированный корпус, убывший 8 декабря в тыл 1-й гвардейской армии, и 2-ю гвардейскую армию генерал-лейтенанта Р.Я. Малиновского, базировавшуюся в районе Тамбова - Мичуринска, которая 4 декабря начала погрузку в эшелоны .
Однако А.М. Василевский, теперь больше заинтересованный в разгроме сталинградской группировки Паулюса, добился 4 декабря передачи 2-й гвардейской армии в состав Донского фронта для завершения операции «Кольцо». Надо сказать, что отношение к этому решению было неоднозначным уже тогда, причем неправильным его считал не только прямо заинтересованный в нем Ватутин, но и командующий Донским фронтом Рокоссовский, не принимавший участия в «Сатурне». Мало того, звучали еще более радикальные предложения. Например, по утверждению Василевского, один не названный им полководец предложил оставить вокруг армии Пау-люса «лишь охранные войска, поскольку она якобы не представляла угрозы, являлась вроде "зайца на привязи", а все наши основные войска немедленно двинуть на Ростов-на-Дону, чтобы отрезать пути отхода фашистским войскам с Северного Кавказа» . Также Василевский утверждал, что Жуков был против переадресации армии Мали-
новского и предлагал использовать ее для удара на Ростов по прежнему плану (правда, судя по деталям, этот спор относился к ночи с 12 на 13 декабря, когда обсуждался вопрос о переводе уже со сталинградского направления на котельниковское) .
Сам Жуков в своих воспоминаниях утверждал обратное. В конце ноября (после доклада Сталину по телеграфу 29 ноября) он созвонился по ВЧ с Василевским и якобы уговорил его временно отказаться от «Сатурна» и нанести удар во фланг тормосинской группировке . Действительно, войска 5-й танковой армии уже 2 декабря начали штурм вражеских позиций в районах Об-ливской, Суровикино, Нижне-Чирской и Рыч-ковского (то есть почти по всей излучине Чира), расходуя резервы и боеприпасы, накапливаемые для «Сатурна». Частям 119-й дивизии удалось даже захватить новый плацдарм в районе Нижне-Калиновки, охватив таким образом суровикинский плацдарм противника. Однако подход 336-й пехотной дивизии и передовых частей 7-й авиаполевой и 11-й танковой дивизий позволил немцам не только остановить наше наступление, но и самим перейти в контратаки.
7 декабря Романенко, перебросив 1-й танковый корпус на островский плацдарм, при поддержке 333-й стрелковой дивизии и 3-го гвардейского кавалерийского корпуса, нанес мощный удар, прорвал позиции батальона 7-й авиаполевой дивизии и вышел в район Сысойкина, угрожая окружением нижне-чирской и рычков-ской группировкам противника (336-я пехотная дивизия, группы «Штумпфельд» и «Адам») . Потери фашистов были значительными. Однако к месту боя подошли основные силы 11-й танковой дивизии, которые в тяжелейшем бою остановили наше наступление. С 9 декабря против нижне-чирской и рычковс-кой группировок стала действовать 5-я ударная армия Сталинградского фронта. 11 декабря войска 5-й танковой армии вновь перешли в атаку. С большим трудом немцы отразили этот натиск, но 48-й танковый корпус из планов «Винтергевиттера» пришлось исключить .
В другом интервью Г.К. Жуков утверждал, что когда Сталин консультировался с ним по вопросу переадресации армии Малиновс-
кого с ростовского направления на сталинградское, то он счел нужным согласиться с мнением Василевского: «и, глядя в прошлое, учитывая тогдашнее соотношение сил, я считаю, что в той обстановке нам ничего, кроме этого, и не оставалось. Подписываюсь под этим решением и считаю его правильным» .
Тем не менее подготовка к «Сатурну», несмотря на переадресацию 2-й гвардейской армии и преждевременное израсходование части сил и средств 5-й танковой армии, продолжалась. К тому же выбранный для армии Малиновского район развертывания (Калач-на-Дону) еще позволял в случае необходимости задействовать это объединение в рамках «Сатурна» по старому варианту. Однако из-за проблем с транспортом Воронежский и Юго-Западный фронты не успевали завершить переброску резервов и боеприпасов, поэтому Воронов, Ватутин и Голиков попросили перенести начало операции на 16 декабря .
Ситуация кардинальным образом изменилась 12 декабря, когда Манштейн начал операцию «Винтергевиттер» на котельников-ском направлении силами 57-го танкового корпуса и поддерживающих его румын с целью деблокады 6-й армии. Первоначально 4-й механизированный и 13-й танковый корпуса вместе с частями 51-й армии сдерживали их натиск на Аксае, но с подходом 17-й танковой дивизии 19 декабря корпусу Вольского и приданным ему частям пришлось отойти на р. Мышкова. Василевский, опасаясь прорыва, еще рано утром 13 декабря добился от Сталина разрешения направить туда 2-ю гвардейскую армию , которая сумела остановить 57-й танковый корпус в жесточайших боях под Черноморовым, Громославкой и Васильевкой. Против Манштейна был направлен и 6-й мехкорпус. Взамен Ватутину из состава Воронежского фронта передали 25-й танковый корпус, который и так планировался для участия в Среднедонской операции. Ввиду нехватки сил вечером 13 декабря план «Сатурн» был заменен на «Малый Сатурн»: главный удар в полосе 1-й гвардейской и 6-й армий теперь наносился на юго-восток, на Морозовскую с целью окружения части 8-й итальянской армии и группы «Холлидт» . Раздосадованный Ватутин во вре-
мя обсуждения нового плана пытался отстоять вариант, близкий к прежнему (с выходом на рубеж Волошино - Миллерово), но Голиков и Генштаб настояли на повороте направления удара на юго-восток . Финальный рубеж наступления пролегал по линии Валентиновка - Марковка - Чертково - Ильинка - Тацинская - Морозовск - Чернышков-ский .
16 декабря войска 1-й гвардейской и 6-й армий прорвали позиции итальянцев. Четыре танковых корпуса один за другим ринулись в глубокий прорыв, и вскоре фронт противника рухнул по всему Среднему Дону. 17 декабря начали наступление 3-я гвардейская армия, прорвавшая немецкие позиции в районе Боков-ской, и 5-я танковая армия, атаковавшая в районе Нижне-Чирской и к востоку от Обливс-кой. Путем величайшего напряжения сил 48-му танковому корпусу удалось отразить атаки армии П.Л. Романенко, но группа «Холлидт» и 8-я итальянская армия были разгромлены наголову. Танковые корпуса за 8 дней продвинулись в тыл врага на расстояние до 200 км, а 24-й корпус В.М. Баданова - на 240 км, захватив аэродром в Тацинской . Стремительные рейды, хаос, бои с перевернутым фронтом, пробивающиеся из окружения остатки фашистских войск вносили неразбериху даже на карты советских командиров, неоднократно попадавших в засады в своем тылу. Среди них оказались начальник штаба Юго-Западного фронта генерал-майор Г.Д. Стель-мах (убит) и начальник штаба 3-й гвардейской армии генерал-майор И.П. Крупенников (пленен).
Таким образом, в результате прорыва наших войск на фронте от Новой Калитвы до Чернышковского образовалась 340-километровая брешь, для закрытия которой у противника резервов, перебрасываемых из Европы, групп армий «Центр» и «Б», было явно недостаточно (306, 308, 385, 387-я пехотные, часть 3-й горной, остатки 27-й танковой дивизии). Для того чтобы остановить наступление Ватутина, пришлось снимать с фронта соединения, задействованные в стратегических операциях. Например, 19-я танковая дивизия прибыла из «марсовых» сражений в Ржевско-Сы-чевском выступе, из района Белого, где еще продолжали вести бои в окружении части 1-го
механизированного и 6-го стрелкового корпусов (может быть, именно благодаря этому они смогли вырваться из «котла»). Свое наступление был вынужден остановить и Манштейн, который перебросил в район Морозовска и Та-цинской 6-ю и 11-ю танковые дивизии. Оставшиеся 17-я и 23-я танковые дивизии еще до начала «Винтергевиттера» имели по 30 танков и продолжать его своими силами не могли. Начальник штаба 48-го корпуса Ф.В. Мел-лентин позже так оценил последствия «Малого Сатурна»: «Кризис на нашем участке фронта и разгром итальянцев не только вынудили отказаться от наступления 11-й танковой дивизии через Дон, но и заставили фон Манш-тейна срочно задержать 4-ю танковую армию Гота, для того, чтобы создать оборону на новом рубеже и прикрыть Ростов. Это решило судьбу 6-й армии под Сталинградом» .
Ставка ВГК наконец осознала, насколько реальной была возможность отсечения групп армий «А» и «Дон» и приказала Н.Ф. Ватутину развить «Малый Сатурн» в «Большой». 28 декабря командующий Юго-Западным фронтом был вынужден констатировать, что «те силы, которые здесь есть, заняты завершением "Малого Сатурна", а для "Большого Сатурна" нужны дополнительные силы» (цит. по: ). Ватутину передали 2-й и 23-й танковые корпуса, а к концу декабря ему обещали еще два танковых корпуса и три стрелковых дивизии. Однако Юго-Западный фронт в те дни нуждался больше в стрелковых дивизиях, которые могли бы закрепить позиции, занятые мобильными соединениями, ушедшими в рейд. Без поддержки отставшей пехоты танковые и механизированные корпуса не смогли удержать Тацинскую, Морозовск, Скосырскую, Миллерово и были вынуждены отступить. Здесь Ватутину очень пригодились бы шесть стрелковых дивизий 2-й гвардейской армии, которая с 19 декабря на р. Мышкове отражала атаки 57-го танкового корпуса.
Во время дискуссий о возможностях применения объединения Р.Я. Малиновского часто утверждается, что кроме 2-й гвардейской армии остановить наступление Манштей-на было некому. Но это не так. С 9 декабря в этом районе было развернуто еще одно объединение - 5-я ударная армия генерал-лейте-
нанта М.М. Попова, в состав которой входили пять стрелковых дивизий (4-я гвардейская, 87, 258, 300, 315-я, причем три из них прибыли из резерва фронта), 3-й гвардейский кавалерийский, 7-й танковый, 4-й механизированный корпуса. Мало того, в приказе Ставки в составе 5-й ударной армии был указан еще один корпус - 23-й танковый. Кроме того, в состав объединения Попова предполагалось включить два противотанковых полка, два-три полка РГК, два полка РСЗО .
Конечно, главной целью этой армии являлось недопущение «прорыва противника из района Тормосин - Нижне-Чирская на соединение с окруженной группировкой противника», поэтому часть ее сил (7-й танковый, 3-й гвардейский кавалерийский корпуса, 4-я гвардейская и 258-я стрелковые дивизии, часть 315-й дивизии) была задействована против 48-го танкового корпуса. Однако к 14 декабря плацдарм на восточном берегу Дону был ликвидирован, а мост у Верхне-Чирского взорван . 15 декабря наши войска взяли Вер-хне-Чирский , фактически ликвидировав плацдарм на восточном берегу Чира, а с 17 декабря все силы 48-го корпуса вермахта оказались брошены против 5-го механизированного корпуса у Обливской.
После этого все соединения 5-й ударной армии, кроме кавкорпуса, могли повернуть против 57-го танкового корпуса. При этом 4-й механизированный корпус уже вел бои с ним у колхоза «8 Марта» до 19 декабря, 300-я и 87-я дивизии были развернуты на Мышкове к 16 декабря, а 315-я дивизия 12 декабря стояла в совхозе «Крепь» и могла в течение дня занять рубеж Черноморов - Громославка (в реальности его заняла 98-я дивизия, прошедшая вдвое больший путь) или Громославка -Васильевка. Чтобы отразить атаки 6-й и 17-й танковых дивизий (23-я танковая дивизия, румынские соединения и группа «Паннвиц» сдерживались силами 51-й армии), Малиновский развернул на Мышкове четыре стрелковые дивизии: 300, 98, 3-ю гвардейскую и 87-ю (две - из 5-й ударной, две - из 2-й гвардейской). Кроме того, в резерве Сталинградского фронта было четыре стрелковые дивизии, стрелковая бригада и два укрепленных района. Одна из этих дивизий (38-я) к 16 декабря прикрывала в тылу станцию Абганерово и
частично приняла участие в бою у Васильев-ки . Для нее не составило бы труда выйти на рубеж Гнилоаксайская - Василь-евка. Если исключить из расчетов 2-ю гвардейскую армию, то Попов для отражения атак 57-го танкового корпуса, начавшихся вечером 19 декабря, имел бы шесть стрелковых дивизий (считая 38-ю из резерва фронта), а также механизированный корпус, правда, уже понесший значительные потери, и танковый корпус, в котором числилось до 150 танков , что было сопоставимо с численностью танков во всех трех немецких танковых дивизиях. Правда, для отражения атак на Мышкове ни танковый, ни механизированный корпуса так и не понадобились.
Совершенно очевидно, что отказ от «Большого Сатурна» и переадресация 2-й гвардейской армии на левый берег Дона оказались ошибкой Ставки ВГК. Весь конец декабря и январь Сталинградский (Южный) фронт, в том числе армия Малиновского, пытались пробиться к Ростову (также как и Юго-Западный фронт на правом берегу Дона), но Манштейн титаническими усилиями сумел удержать переправы в Ростове до вывода большей части групп армий «А» и «Дон» . Всего в их составе было 77 дивизий (включая 21, окруженную в Сталинграде), в том числе 16 танковых и моторизованных дивизий вермахта и СС (не считая румынской и словацкой дивизий). С учетом семи дивизий и двух бригад 8-й итальянской армии, разгромленных в Сред-недонской операции, общая численность фашистских соединений, которая могла быть блокирована и/или уничтожена в ходе «Сатурна», достигает 85 условных дивизий. Это составляет примерно треть от всех соединений Восточного фронта или четверть от всех существовавших соединений вермахта и СС, а также подчиненных им союзников (подсчитано по: ).
Конечно, многие из них понесли значительные потери, но было немало таких, кто сохранил свой боевой потенциал. К таковым, без сомнения, можно отнести 3, 6, 7, 11, 17-ю танковые дивизии и дивизию СС «Викинг», которые в феврале-марте 1943 г. сыграли ключевую роль в поражении советских войск в ходе операции «Скачок» . Нет сомнений в том, что в случае успеха «Большо-
го Сатурна» все эти соединения остались бы на Кавказе, поскольку противник не имел портов для их эвакуации морем, а танковому корпусу СС, прибывшему из Европы, одному было не под силу остановить «Скачок» советских войск к Днепру. Если же к 16 танковым и моторизованным соединениям вермахта и СС групп армий «А» и «Дон» добавить расформированную 27-ю танковую дивизию и пять соединений, вскоре капитулировавших в Африке, то получается, что «пан-церваффе» могло лишиться в ту зиму половины из своих 44 дивизий.
Таким образом, операцию «Большой Сатурн» следует отнести к числу тех упущенных возможностей советского командования, которые могли предрешить исход всей войны, причем ключевую роль здесь сыграла позиция А.М. Василевского, который действовал не с позиции начальника Генштаба всей Красной армии, а с более узкой позиции представителя Ставки ВГК двух фронтов. Думается, что был прав К.К. Рокоссовский, когда писал: «Операция вышла суженной, поскольку все внимание и значительные силы были отвлечены на. группу Манштейна. Это помогло немцам избежать еще более крупной катастрофы на ростовском направлении, чем под Сталинградом. Я уверен в том, что если бы Василевский находился в то время не у нас в Заворыкино, а у себя в Москве, в Генеральном штабе, то вопрос об использовании 2-й гвардейской армии решился бы так, как предлагала Ставка, то есть армия ушла бы для усиления удара Юго-Западного и Воронежского фронтов на ростовском направлении.» .
СПИСОК ЛИТЕРА ТУРЫ
1. Боевой состав Советской армии. Ч. III. Январь - декабрь 1943 г. - М. : Воениздат, 1972. -336 с.
2. Василевский, А. М. Дело всей жизни / А. М. Василевский. - М. : Политиздат, 1983. - 544 с.
3. Великая Отечественная война. 1941-1945. Военно-исторические очерки. Кн. 2. Перелом. - М. : Наука, 1998. - 502 с.
4. Великая Победа на Волге / под ред. К. К. Рокоссовского. - М. : Воениздат, 1965. - 528 с.
5. Жуков, Г. К. Воспоминания и размышления. В 2 т. Т. 2 / Г. К. Жуков. - М. : Новости, 1995. -384 с.
6. Зенгер, Ф. фон. Ни страха, ни надежды / Ф. фон Зенгер. - М. : Центрполиграф, 2004. - 479 с.
7. Исаев, А. Битва за Харьков. Февраль-март 1943 года / А. Исаев // Фронтовая иллюстрация. -2004. - №> 6. - С. 3.
8. Казаков, М. И. Над картой былых сражений / М. И. Казаков. - М. : Воениздат, 1971. - 288 с.
9. Манштейн, Э. Утерянные победы / Э. Ман-штейн. - М. ; СПб. : АСТ, 2002. - 896 с.
10. Меллентин, Ф. В. Танковые сражения. Боевое применение танков во Второй мировой войне / Ф. В. Меллентин. - СПб. : Полигон, 2000. - 448 с.
11. Мюллер-Гиллебранд, Б. Сухопутная армия Германии. 1933-1945 / Б. Мюллер-Гиллебранд. -М. : Изографус, 2002. - 800 с.
12. На приеме у Сталина: тетради (журналы) записей лиц, принятых И.В. Сталиным (1924-1953) / авт.-сост. А. В. Коротков, А. Д. Чернев, А. А. Чер-нобаев. - М. : Новый хронограф, 2008. - 784 с.
13. Роковые решения. Поход на Сталинград / Г. Дерр [и др.]. - СПб. : Полигон, 2000. - 640 с.
14. Рокоссовский, К. К. Солдатский долг / К. К. Рокоссовский. - М. : Воениздат, 1997. - 480 с.
15. Самсонов, А. М. Сталинградская битва / А. М. Самсонов. - М. : Наука, 1989. - 630 с.
16. Симонов, К. М. Глазами человека моего поколения. Размышления о И.В. Сталине / К. М. Симонов. - М. : Книга, 1990. - 419 с.
17. Среднедонская операция // Великая Отечественная война: энциклопедия. - М. : Сов. энцикл., 1985. - 832 с.
18. Сталинградская битва. Хроника, факты, люди. В 2 кн. Кн. 2 / сост. В. А. Жилин [и др.]. - М. : Олма-Пресс, 2002. - 573 с.
1. Boevoy sostav Sovetskoy armii. Ch. III. Yanvar - dekabr 1943 g. . Moscow, Voenizdat Publ., 1972. 336 p.
2. Vasilevskiy A.M. Delo vsey zhizni . Moscow, Politizdat Publ., 1983. 544 p.
3. Velikaya Otechestvennaya voyna. 19411945. Voenno-istoricheskie ocherki. Kn. 2. Perelom . Moscow, Nauka Publ., 1998. 502 p.
4. Rokossovskiy K.K., ed. Velikaya Pobeda na Volge . Moscow, Voenizdat Publ., 1965. 528 p.
5. Zhukov G.K. Vospominaniya i razmysh-leniya. V21. T. 2 . Moscow, Novosti Publ., 1995. 384 p.
6. Zenger F. fon. Ni strakha, ni nadezhdy . Moscow, Tsentrpoligraf Publ., 2004. 479 p.
7. Isaev A. Bitva za Kharkov. Fevral-mart 1943 goda . Frontovaya illyustratsiya, 2004, no. 6, p. 3.
8. Kazakov M.I. Nad kartoy bylykh srazheniy . Moscow, Voenizdat Publ., 1971. 288 p.
9. Manshteyn E. Uteryannye pobedy . Moscow; Saint Petersburg, AST Publ., 2002. 896 p.
10. Mellentin F.V. Tankovye srazheniya. Boevoe primenenie tankov vo Vtoroy mirovoy voyne . Saint Petersburg, Poligon Publ., 2000. 448 p.
11. Myuller-Gillebrand B. Sukhoputnaya armiya Germanii. 1933-1945 . Moscow, Izografus Publ., 2002. 800 p.
12. Korotkov A.V, Chernev A.D., Chernobaev A.A. Na prieme u Stalina: tetradi (zhurnaly) zapisey lits, prinyatykh I. V. Stalinym (1924-1953) . Moscow, Novyy khronograf Publ., 2008. 784 p.
13. Derr G., et al. Rokovye resheniya. Pokhodna Stalingrad . Saint Petersburg, Poligon Publ., 2000. 640 p.
14. Rokossovskiy K.K. Soldatskiy dolg . Moscow, Voenizdat Publ., 1997. 480 p.
15. Samsonov A.M. Stalingradskaya bitva . Moscow, Nauka Publ., 1989. 630 p.
16. Simonov K.M. Glazami cheloveka moego pokoleniya. Razmyshleniya o I.V. Staline . Moscow, Kniga Publ., 1990. 419 p.
17. Srednedonskaya operatsiya . Velikaya Otechestvennaya voyna: entsiklopediya . Moscow, Sovetskaya entsiklopediya Publ., 1985. 832 p.
18. Zhilin V.A., et al., ed. Stalingradskaya bitva. Khronika, fakty, lyudi. V 2 t. T. 2 . Moscow, Olma-Press Publ., 2002. 573 p.
THE OPERATION "BIG SATURN": PLAN AND IMPLEMENTATION OPPORTUNITIES
Utash Borisovich Ochirov
Doctor of Sciences (History), Associate Professor, Leading Researcher, Department of History and Archeology, Kalmyk Institute for Humanities, RAN [email protected]
Ilishkina St., 8, 358000 Elista, Russian Federation
Abstract. The article analyzes the plan of one of the most important operations of a radical turning point in the course of the Great Patriotic War. Initially, the plan, conceived as the development of Operation "Uranus" and resulted in the encirclement of the 6th Army headed by Field Marshall Paulus at Stalingrad, was called "Saturn". However, after creating a shortened version of the name "Small Saturn", it was called "Big Saturn". The main purpose of "Saturn" was to conduct the strategic offensive with the help of four or five armies from middle Don and Chir towards Rostov-on-Don to withdraw the enemy Army Group "Don" and Army Group "A" from the Caucasus. The enemy army groups consisted of almost a third of the units of the Wehrmacht and its allies, who fought against the Soviet Union and their defeat or delay on the Taman Peninsula where there was no port capacity for rapid evacuation of such a large group of people, equipment and supplies, could significantly change the balance of forces on the Eastern front.
Unfortunately, the Chief of the General Staff of the Red Army Alexander Vasilevsky, who was initially in charge of the "Saturn" operation as the representative of Stavka (General Headquarters), was appointed by Stalin in late November as a coordinator of the Soviet troops, achieving the encirclement of the surrounded Paulus"s grouping. Vasilevsky, using his authority, managed to transfer a significant part of the strategic reserves from the middle Don direction firstly to the Stalingrad direction and then to the Kotelnikovsky direction against unlocking grouping of Manstein. The analysis of the forces of the Stalingrad Front, given in
the article, shows that there were enough troops to repulse an attack. The transferred strategic reserves proved to be redundant, and their offensive on Rostov failed, while their usage according to the plan "Saturn" would have led to undeniable success. As a result, Manstein managed to get out of the trap through Rostov a large part of forces of Army Group "A" and Army Group "Don", which played a key role in the defeat of Soviet forces in Donbass and under Kharkov during strategic Operations "Zvezda" and "Scachok".
Key words: Great Patriotic War, radical turning point, Stalingrad battle, operation "Saturn", Middle Don operation, Southwestern Front (of the 2nd formation), Alexander Mikhaylovich Vasilevsky, Nikolay Fedorovich Vatutin.
После окружения войск 6-й армии Вермахта под , советское командование получило перспективу развить достигнутый стратегический успех на всем южном фасе Советско-Германского фронта. Ставкой Верховного Главнокомандования была разработана операция «Сатурн» — наступательной операции силами Юго-Западного и левого крыла Воронежского фронтов в направлении Миллерово, Ростов. Цель наступления - создание нового кольца по отношению к окруженной под Сталинградом группировке противника, с последующим окружением всех немецких войск у излучины реки Дон и на Кавказе. Проведение операции намечалось на начало декабря 1942 года.
Александр Михайлович Василевский
Начальник Генштаба Красной Армии А.М. Василевский о замысле операции «Сатурн»: «Ближайшая цель операции - разгром 8-й итальянской армии и немецкой оперативной группы «Холлидт». Для этого на Юго-Западном фронте создать две ударные группировки: одну - на правом фланге 1-й гвардейской армии (в составе 6 стрелковых дивизий, 3 танковых корпусов и необходимых средств усиления) для нанесения удара с плацдарма южнее Верхнего Мамона в южном направлении, на Миллерово; другую - в полосе 3-й гвардейской армии к востоку от Боковской (в составе 5 стрелковых дивизий и одного механизированного корпуса) для одновременного нанесения удара с востока на запад, также на Миллерово, чтобы замкнуть кольцо окружения. В дальнейшем, разгромив итальянцев, подвижные войска фронта выходят на Северский Донец и, захватив переправу в районе станции Лихая, создают благоприятную обстановку для развития дальнейшего наступления на Ростов.»

Общий замысел Ставки ВГК на развертывание наступления. Декабрь 1942 год
В начале декабря месяца советское командование прилагало огромные усилия для ликвидации «Сталинградского котла» (операция «Кольцо»), армия Паулюса сковывала группировку Красной Армии численностью в 480 тыс. человек, 465 танков, 8490 орудий и минометов, блокировала крупнейший транспортный узел — город Сталинград. Скорейшие уничтожение окруженной армии противника позволило бы высвободить и задействовать в наступлении значительные силы Красной Армии.
Планам проведение операций «Сатурн» и «Кольцо» помешала попытка нанесения деблокирующего удара, предпринятая генерал-фельдмаршалом Манштейном (операция «Wintergewitter»). Первоначально немцами планировалось нанести два деблокирующих удара: силами 4-й танковой армии из района Котельниково и армейской группой «Холлидта» с рубежа Чира в направлении на Калач, но от удара с рубежа Чиры Манштейну пришлось отказаться, Манштей не стал рисковать устойчивостью Чирского фронта.
О принятых Ставкой ответных решениях вспоминает А.М. Василевский: «14 декабря в 22 часа 30 минут мы получили официальную директиву о том, чтобы временно отложить осуществление операции «Кольцо», а 2-ю гвардейскую армию двинуть на юг. Ставка требовала при этом продолжать войсками, действовавшими на внутреннем фронте окружения, систематически истреблять войска Паулюса с воздуха и на земле, не давая врагу передышки ни днем, ни ночью, все более сжимать кольцо окружения и в корне пресекать попытки окруженных вырваться из него. Общая идея отражения войск Манштейна была сформулирована в директиве так: главная задача наших южных войск - разбить котельниковскую группу противника силами Труфанова (51-я армия) и Р. Я. Малиновского, в течение ближайших дней занять Котельниково и прочно там закрепиться. 19 декабря в помощь командующим Донским и Сталинградским фронтами в подготовке и в проведении операции по ликвидации окруженных войск Паулюса был командирован находившийся на Юго-Западном фронте командующий артиллерией Красной Армии Н. Н. Воронов. В директиве говорилось: «Товарищ Воронов командируется в район Сталинградского и Донского фронтов в качестве заместителя товарища Василевского по делу о ликвидации окруженных войск противника под Сталинградом… Товарищу Воронову, как представителю Ставки и заместителю Василевского, поручается представить не позднее 21 декабря в Ставку план прорыва обороны войск противника, окруженных под Сталинградом, и ликвидации их в течение пяти-шести дней».

операция "Wintergewitte"
Решение о повороте 2-й гвардейской армии на котельниковское направление в создавшейся к 13 декабря обстановке было наиболее правильным и целесообразным, ибо даже незначительное промедление в ее выдвижении на юг могло бы поставить нас в довольно невыгодное положение. В ночь на 14 декабря последовало и еще одно очень важное решение Ставки: изменить направление главного удара Юго-Западного и левого крыла Воронежского фронтов. Если по плану операции «Сатурн» оно намечалось прямо на юг, через Миллерово на Ростов, в тыл всей группировке противника на южном крыле советско-германского фронта, то теперь было решено после разгрома итальянской армии на среднем течении Дона направить удар на юго-восток, в сторону Морозовска и Тормосина, то есть в тыл деблокирующей группировке Манштейна.
Поскольку это решение Ставки представляет особый интерес и вызывает у некоторых пишущих об этом сомнения в его правильности, позволю себе остановиться на нем подробнее. Прежде всего, чем же руководствовалась Ставка, отказываясь от проведения в жизнь столь важного и уже подготовленного к выполнению стратегического решения? Ответ на этот вопрос дает директива Верховного Главнокомандующего от 13 декабря, адресованная Воронову, Ватутину и Голикову. В ней отмечалось, что в конце ноября, когда задумывалась операция «Сатурн», обстановка для нее была благоприятная и операция была вполне обоснована. «В дальнейшем, однако, обстановка изменилась не в пользу нас. Романенко и Лелюшенко стоят в обороне и не могут двигаться вперед, так как за это время противник успел подвести с запада ряд пехотных (в документе стрелковых. : -Авт.) дивизий и танковых соединений, которые сдерживают их. Следовательно, удар с севера не встретит прямой поддержки с востока от Романенко, ввиду чего наступление в сторону Каменск-Ростов не может получить успеха». Далее Верховный замечал, что 2-я гвардейская армия не может быть использована для операции «Сатурн», так как работает на другом фронте. «Ввиду всего этого необходимо видоизменить операцию «Сатурн». Видоизменение состоит в том, чтобы главный удар направить не на юг, а на юго-восток в сторону Нижний Астахов и с выходом на Морозовский, с тем чтобы боковско-морозовскую группу противника взять в клещи, пройтись по ее тылам и ликвидировать ее одновременным ударом с востока силами Романенко и Лелюшенко и с северо-запада силами Кузнецова и приданных ему подвижных частей. Задача Филиппова (Голикова.- Авт.) при этом будет состоять в том, чтобы помочь Кузнецову ликвидировать итальянцев, выйти на реку Богучар в районе Кременков и создать серьезный заслон и против возможного удара противника с запада». Директивой предписывалось прорыв произвести в тех же районах, в которых он был задуман по операции «Сатурн». После прорыва удар переносился на юго-восток в сторону Нижний Астахов - Морозовский, на тылы противника, стоявшего против армий Романенко и Лелюшенко. Операция, получившая наименование «Малый Сатурн», намечалась на 16 декабря. Из директивы же ясно видно, что основной причиной отказа от проведения «Сатурна» явилось изменение оперативной обстановки на сталинградском направлении. В результате советское командование лишилось возможности поддержать и развить основной удар Юго-Западного фронта на Миллерово - Ростов сильным ударом с востока, для чего Ставкой ранее, как это видно из директивы, предназначалась 2-я гвардейская армия. Сосредоточение немцами в районе Котельникова 57-го танкового корпуса и удержание противником в районе Рычковского и Нижне-Чирского своих позиций создало серьезную угрозу деблокирования войск Паулюса»
Подобное решение было воспринято не однозначно. Из воспоминаний начальник штаба Воронежского фронта М.И. Казакова: «Разница между операциями «Большой Сатурн» и «Малый Сатурн» была весьма существенной. Конечная цель «Малого Сатурна» соответствовала примерно ближайшей задаче «Большого Сатурна».

Panzer III. Декабрь 1942 операция "Зимння гроза"
Новую директиву командующие фронтами восприняли не одинаково. На нашем, Воронежском фронте к указаниям Ставки о сокращении пространственного размаха операции все отнеслись с пониманием. А вот генерал-полковник Ватутин стал добиваться, чтобы операция проводилась в прежнем плане, то есть с задачей выхода войск к Азовскому морю. От 6-й армии он ждал соответственных действий - с выходом главной группировки на рубеж Марковка, Чертково, а 17-го танкового корпуса - в район Волошино (30 км западнее Миллерово). Николай Федорович посягал даже на то, чтобы 17-й танковый корпус был переподчинен ему. В ночь на 14 декабря состоялась личная встреча командующих Воронежским и Юго-Западным фронтами в присутствии генерал-полковника Воронова. Предстояло согласовать их взаимные действия. Однако согласия достигнуть не удалось: каждый из командующих отстаивал свою точку зрения. Почти весь день после этого продолжались переговоры по ВЧ между штабами фронтов. В конце концов в диалог двух командующих вмешался Генштаб и от имени Ставки подтвердил указания о проведении операции по новому плану, с меньшим размахом. »
Сейчас об этом мало говорят, но тогда и в Ставке не было единодушного мнения о дальнейших действиях Красной Армии. Это касалось не только планов наступления, но и судьбы окруженной армии Паулюса. В воспоминаниях («Дело всей жизни») Маршала Советского Союза А.М. Василевского есть любопытные строки: «Должен сказать, что по вопросу о дальнейших действиях советских войск в районе Сталинграда в Ставку был внесен ряд предложений. Как мне стало известно, согласно одному из них, мы должны были прекратить действия по ликвидации осажденной армии Паулюса, оставить вокруг нее лишь охранные войска, поскольку она якобы не представляла угрозы, являлась вроде «зайца на привязи», а все наши основные войска немедленно двинуть на Ростов-на-Дону, чтобы отрезать пути отхода фашистским войскам с Северного Кавказа. Это, по мнению авторов предложения, принесло бы нам большие выгоды, образовав на Северном Кавказе второй крупный «котел» для находившихся там неприятельских войск. И.В.Сталин поддержал мое отрицательное отношение к этому предложению. Верховное Главнокомандование на основе трезвого расчета не могло стать на этот путь, хотя он был заманчивым. Под Сталинградом находилась хотя и ослабленная, но крупная группировка противника, располагавшая мощной боевой техникой и далеко еще не лишенная боеспособности. Недооценивать ее, особенно в начале декабря, было ни в коем случае нельзя. И. В. Сталин отверг предложение «открыть ворота» Паулюсу, предложив его авторам оставить эту идею при себе.»
Действительно, идея решительным ударом окружить всю группу армий «Юг» выглядит заманчиво. Жаль, что Александр Михайлович так и не назвал авторов этого предложения, увы, этой информации нет и по сей день. Но факт того, что Василевский не озвучил фамилии этих людей и то, что они имели возможность обращаться с предложениями лично к Сталину, говорит о высоких званиях и авторитете военачальников. По всей видимости, споры, в кругу прославленных советских полководцев, о принятых тогда, в декабре 1942 года, решениях не утихали и годы спустя после окончания Великой Отечественной войны. Тому остались свидетельства в мемуарной литературе.

Константин Константинович Рокоссовский
Василевский пишет: «Кстати, командующий Донским фронтом мой друг К. К. Рокоссовский не был согласен с передачей 2-й гвардейской армии Сталинградскому фронту. Более того, настойчиво просил не делать этого и пытался склонить на свою сторону И. В. Сталина.
Уже после войны он не раз вспоминал об этом.
- Ты был все же тогда не прав,- говорил Константин Константинович.- Я со 2-й гвардейской еще до подхода Манштейна разгромил бы оголодавшие и замерзающие дивизии Паулюса. »
А вот как о этих же событиях пишет сам Рокоссовский: «Из многочисленных наблюдений и размышлений можно было сделать вывод, что в создавшейся обстановке противник предпримет все меры к тому, чтобы как можно дольше удержать под Сталинградом всю задействованную группировку наших войск. Таким образом, он попытается создать предпосылки к закрытию огромной бреши в его фронте, образовавшейся в результате успешного наступления советских войск на сталинградском и ростовском направлениях.
Раздумывая над этим выводом, мне казалось, что было бы все же более целесообразным 2-ю гвардейскую армию использовать так, как вначале намеревалась сделать Ставка, то есть быстро разделаться с окруженной, группировкой. Смелый вариант открывал огромные перспективы для будущих действий на южном крыле советско-германского фронта. Игра, как говорится, стоила свеч, да и риск получался не таким уж большим. Некоторые группировки противника, спешившие якобы на помощь окруженным, оказались преувеличенными теми, кто о них сообщал, и особой помощи оказать не могли. Они состояли из остатков разбитых частей и тыловых команд, собранных в группы под разными названиями, и больше думали о том, как бы самим выбраться из беды, чем о помощи окруженным. Конечно, меня могут упрекнуть в том, что сейчас, когда стало все ясным, можно рассуждать и доказывать все что угодно, но я и являлся сторонником использования 2-й гвардейской армии в первую очередь для разгрома окруженного врага.
Ставка предпочла принять вариант, предложенный ее представителем - Василевским. Посчитали, что он более надежный. Но ведь и этот вариант не исключал элементов риска. Намечаемая Ставкой красивая операция на ростовском правлении могла и не удаться. Впрочем, так оно и получилось. Операция вышла суженной, поскольку все внимание и значительные силы были отвлечены на так называемую группу Манштейна. Это помогло немцам избежать еще более крупной катастрофы на ростовском направлении, чем под Сталинградом. Я уверен в том, что если бы Василевский находился в то время не у нас в Заворыкино, а у себя в Москве, в Генеральном штабе, то вопрос об использовании 2-й гвардейской армии решился бы так, как предлагала Ставка, то есть армия ушла бы для усиления удара Юго-Западного и Воронежского фронтов на ростовском направлении или для ускорения ликвидации окруженного под Сталинградом противника…»

Генерал-фельдмаршал Э. Манштейн
В качестве подтверждения справедливости рассуждений К.К. Рокосовского можно привести слова самого Манштейна:«Если бы русским удалось прорвать тончайший, первоначально состоявший в основном из остатков румынских соединений, немецких обозов и боевых групп заслон, который (помимо так называемой «крепости» Сталинград) составлял единственное охранение всего оперативного района между тылом группы армий «А» и еще находившимся в наших руках фронтом, тянувшимся по Дону, то не только 6 армии было бы уже не на что надеяться. Положение группы армий «А» тогда также должно было стать более чем критическим.»
Очевидно, что и после окончания Великой Отечественной в кругу военачальников, детально обсуждалась тема Сталинградской битвы, проводился анализ принятых решений и далеко не все были уверены, что эти решения были оптимальные и позволяли по максимуму развить успех.
Наверное, если бы это был 1944 год, когда Красная Армия, в ходе Великой Отечественной войны, накопила опыт проведения операций по окружению крупных группировок противника, то Ставка предпочла бы рискнуть, оставив в тылу окруженную армию Паулюса, отложив ее ликвидацию «на потом», привела бы в действие план «Сатурн». Собственно, в 1944-1945 гг задача ликвидации окруженных сил противника не была первостепенной, Красная Армия совершала прорывы на максимально возможную глубину, оставляя в тылу крупные силы немцев. Так было в Белоруссии, в Курляндии, с окруженными остатками группы армий «Север», в Кенигсберге, Бреслау и с другими немецкими «фестунгами». Правда, и Красная Армии в 1944 году имела большую подвижность, чем в 1942 году…
Кто был прав? Сейчас сказать трудно, тогда Ставка решила выполнить программу минимум — гарантированный разгром 6-й армии Вермахта. Как говорится, лучше синица в руках…
попытка захвата Батайска и Ростова-на-Дону в середине января 1943 года
В истории боевых действий на донской земле есть малоизвестная страница - попытка захвата Батайска и Ростова-на-Дону в середине января 1943 года. В официальных исследованиях - «История Великой Отечественной войны. 1941-1945 гг.» в шести томах и в двенадцатитомной «Истории второй мировой войны. 1939-1945 гг.» этой операции посвящено всего несколько невразумительных строчек.
Контрнаступление советских войск под Сталинградом (операция «Уран») началось 19 ноября 1942 года, а через пять дней танковые и механизированные корпуса Юго-Западного и Сталинградского фронтов замкнули кольцо окружения вокруг трёхсоттридцатитысячной группировки Фридриха Паулюса. Семь армий Донского и Сталинградского фронтов всё туже сжимали внутреннее кольцо окружения, а четыре армии Юго-Западного и 51-я армия Сталинградского фронта оттеснили внешний фронт окружения на рубеж рек Кривая, Чир и Дон - станция Суровикино - район Котельниково.
У советского Верховного командования появилась уникальная возможность ударом с севера на юг, на Ростов, отрезать всю северокавказскую группировку противника - а это свыше семисот шестидесяти тысяч солдат и огромное количество боевой техники и снаряжения. Устроить немцам и их союзникам новый гигантский «котёл» - «Гросс-Сталинград».
План получил кодовое наименование «Сатурн». Начало запланировали на 2 декабря. Две отборные гвардейские армии, усиленные четырьмя танковыми и тремя механизированными корпусами, должны были кинжальным ударом разрезать фронт 8-й итальянской армии, выйти к Миллерову и вдоль железной и шоссейной дорог Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону войти в столицу Дона. Но обеспечить эту красиво задуманную операцию войсками, боеприпасами и горюче-смазочными материалами тыловые службы Юго-Западного фронта к намеченному сроку не успели, и её перенесли сначала на 10-е, а затем на 16 декабря.
За это время командование группы армий «Дон» во главе с лучшим стратегом третьего рейха фельдмаршалом Эрихом фон Манштейном не только усилило наспех созданную оборону, но и предприняло попытку пробить коридор к окружённой группировке Паулюса из района Котельникова вдоль железной дороги на Сталинград. Чтобы парировать эту попытку, советскому командованию пришлось задействовать 2-ю гвардейскую армию и три подвижных корпуса, то есть половину ударной группировки для операции «Сатурн». Ставка Верховного Главнокомандования внесла коррективы в план операции, изменила цели, масштаб и направление удара. Новая операция под кодовым названием «Малый Сатурн» была проведена в период с 16-го по 30 декабря 1942 года. Разгром итальянской армии и уничтожение авиабазы снабжения в Тацинской, снабжавшей окружённую группировку Паулюса, заставило Манштейна прекратить наступление всего в сорока километрах от войск Шестой немецкой армии и перебросить наиболее боеспособную 6-ю танковую дивизию в полосу наступающих армий Юго-Западного фронта.
Ростов-на-Дону по-прежнему манил советское высшее командование идеей одним махом покончить со всей северокавказской группировкой врага скоординированным наступлением трёх советских фронтов при поддержке Черноморского флота. В рамках этой Северо-Кавказской стратегической операции была подготовлена наступательная операция Южного фронта по освобождению Батайска, Ростова-на-Дону и Новочеркасска под наименованием «Дон». Главная роль отводилась 2-й гвардейской армии генерал-лейтенанта Р. Я. Малиновского и лучшим бронетанковым корпусам фронта - гвардейцам 3-го танкового Котельниковского, 2-го, 3-го Сталинградского, 4-го Сталинградского, 5-го Зимовниковского механизированных корпусов. В этой ударной группировке задействовали одиннадцать стрелковых дивизий, тринадцать механизированных и три танковых бригады, девять танковых полков, поддержанных восемнадцатью артиллерийскими и миномётными полками и шестью отдельными дивизионами. На бумаге эти силы выглядели внушительными, в реальности же войск и боевой техники, а главное средств боевого обеспечения, оказалось много меньше. Удаление войск на многие сотни километров от фронтовых баз снабжения, отсутствие передвижных танко- и авто-ремонтных заводов и мастерских привело к резкому ограничению в снабжении войск наиболее расходными видами мин и снарядов, горюче-смазочными материалами. Сотни танков и автомашин застыли в тылу, дожидаясь ремонта или эвакуации в тыл, на рембазы. Личный состав давно питался «подножным кормом».
В середине января 43-го четыре армии Южного фронта генерал-полковника А. И. Ерёменко вышли к Манычу (полоса станица Пролетарская - устье реки). От станицы Манычской и райцентра Весёлый до Батайска и Ростова оставалось около сорока - шестидесяти километров. В этой полосе «батайский коридор» удерживали две дивизии Четвёртой немецкой танковой армии - 17-я танковая и 16-я моторизованная, которыми командовали потомственные аристократы - генерал-лейтенант Фридо фон Зенгер унд Эттерлин и генерал-майор граф Герхард фон Шверин. Всего у немцев в этой пятидесятикилометровой полосе было четыре полка мотопехоты, два артиллерийских полка, четыре батальона танков и штурмовых орудий, укомплектованных бронетехникой на тридцать процентов (60-70 бронеединиц), полк шестиствольных реактивных миномётов, два дивизиона противовоздушной обороны. Значительное количество бронетранспортёров, гусеничных тягачей и грузовиков в танковой и моторизованной дивизиях позволяло немецкому командованию быстро перебрасывать части и подразделения с неатакованных участков к местам прорыва советских войск. Со стационарных аэродромов Батайска, Ростова и Таганрога немецкая авиация за считанные минуты достигала поля боя и могла с утра до вечера эффективно поддерживать с воздуха свои малочисленные наземные войска.
14 января 43-го командующий Южным фронтом Еремёнко, член Военного совета фронта генерал-лейтенант Н. С. Хрущёв и начальник штаба фронта генерал-майор Варенников в четыре часа дня подписали оперативную директиву № 006. В преамбуле указывалось: «во исполнение указаний Ставки ВГК, основной задачей для войск Южного фронта является выход на рубеж Шахты, Новочеркасск, Ростов, Батайск, чтобы отрезать пути отхода войскам противника с Северного Кавказа; во взаимодействии с войсками Закавказского фронта уничтожить кавказскую группировку противника, не допустить её выхода к р. Дон». Далее говорилось: механизированной группе «Дон» в составе трёх гвардейских корпусов - 3-го танкового, 2-го и 5-го механизированных, 98-й стрелковой дивизии и частей усиления, под командованием генерал-лейтенанта танковых войск Павла Алексеевича Ротмистрова, с утра 17 января, с фронта Багаевская - Весёлый, нанести удар на Батайск и к утру 18 января его захватить, а одним механизированным корпусом - Ростов. Справа 300-я стрелковая дивизия своим наступлением от Раздорской на Новочеркасск обеспечивала поддержку группы Ротмистрова с севера. 1-й гвардейский стрелковый корпус, взаимодействуя с 5-й Ударной армией, согласно этой директиве, должен был 18 января форсировать Северский Донец и наступать на Новочеркасск. 13-й гвардейский стрелковый корпус своими тремя дивизиями, наступая за группой Ротмистрова, выдвигался к 21 января в район Батайск - Ольгинская, фронтом на юг. Лётчики 8-й воздушной армии прикрывали с воздуха подвижную группу Ротмистрова и содействовали наземным войскам в захвате Батайска и Ростова-на-Дону. Начальник штаба - подготавливал авиадесант (306 парашютистов-диверсантов) для выброски в район Батайска, чтобы подорвать железнодорожные пути и мосты в пойме Дона. Заместителю командующего фронтом по тылу предписывалось 15 и 16 января подать для механизированной группы «Дон» 200 тонн горючего .
На основании директивы Павел Алексеевич Ротмистров отдал приказ о наступлении командирам мехкорпусов генералам Богданову и Свиридову и командиру 98-й стрелковой дивизии полковнику Серёгину. Из-за отсутствия горючего и большой разбросанности частей срок перехода в наступление перенесли на сутки, с 17 на 18 января. Но и в этот день собрать в ударный кулак войска из-за нехватки горюче-смазочных материалов не удалось. Сознавая, что невыполнение директив Ставки Верховного Главнокомандования и Военного совета фронта грозит трибуналом, Ротмистров приказал слить всё горючее из боевых и транспортных машин и заправить им двенадцать танков, девять бронетранспортёров и пять бронемашин из состава 19-й гвардейской танковой бригады. Двести автоматчиков 2-й гвардейской мотострелковой бригады составили десант на броне. Этот импровизированный передовой отряд возглавил командир 19-й бригады гвардии полковник Александр Васильевич Егоров.
В ночь на 19 января отряд Егорова, следуя по маршруту Малая Западенка - совхозы ОГПУ и имени Ленина на рассвете 20 января вышел к Батайску. Здесь отряд разделился: пять танков Т-34 с взводом автоматчиков на броне атаковали немецкий аэродром в полутора километрах восточнее станции, а главные силы отряда атаковали станцию и посёлок. На аэродроме было уничтожено десять самолётов, ангар, склады горюче-смазочных материалов и военного имущества, десятки солдат из батальона аэродромного обслуживания. Отличились экипажи танков капитана А. В. Капусты, лейтенантов М. С. Курышева и Б. В. Романова. Но огнём зенитной батареи все наши пять танков были подбиты, немцы при этом потеряли одно орудие. На станции Батайск разбили десятки вагонов, несколько паровозов, зенитное орудие, шестиствольный реактивный миномёт, двенадцать автомашин и до сотни вражеских солдат и офицеров. Ответный огонь противника подбил три наших танка и три бронемашины, убил и ранил около пятидесяти автоматчиков. Испытывая острый недостаток боеприпасов и горючего, остатки передового отряда отошли от Батайска на восемь-десять километров, где в совхозах имени Ленина и имени ОГПУ заняли круговую оборону, дожидаясь подхода главных сил механизированной группы «Дон».
Одновременно с атакой Батайска отрядом полковника Егорова к действиям перешёл и противник. Генерал-фельдмаршал Манштейн передал во временное подчинение Четвёртой танковой армии свою «пожарную команду», свою «палочку-выручалочку» - 11-ю танковую дивизию генерал-майора Германа Балька. Опытный танкист, генерал-полковник Герман Гот немедленно нанёс молниеносный удар из района станицы Ольгинской на Манычскую силами 11-й танковой дивизии, и из района Весёлого на хутор Тузлуков - силами 17-й танковой дивизии, чтобы сорвать наступление главных сил группы генерала Ротмистрова.
19 января сорок пять танков и полк мотопехоты 11-й танковой дивизии атаковали малочисленную 98-ю стрелковую дивизию. Ее 166-й стрелковый полк, оборонявший хутор Самодуровка, был окружён, разбросан на изолированные очаги сопротивления. А с наступлением темноты полк разрозненными группами отступил в станицу Манычская.
20 января сорок четыре танка с мотопехотой 11-й танковой дивизии атаковали 308-й стрелковый полк 98-й дивизии. Его обескровленные батальоны стали отходить к Манычской. Пехоту от уничтожения спас старший лейтенант И. Л. Дроздов - командир 2-й батареи 54-го гвардейского истребительного-противотанкового дивизиона 2-го гвардейского механизированного корпуса. Подчинив себе два взвода противотанковых ружей, Дроздов огнём орудий и ПТР отбил танковую атаку. Остатки 308-го полка отошли в Манычскую, к главным силам 98-й дивизии.
21 января противник атаковал остатки передового отряда полковника Егорова на центральной усадьбе совхоза имени Ленина. Две атаки врага отбили, но горючего и боеприпасов осталось в обрез. Вечером враг ворвался в совхоз. Контратакой резервного взвода лейтенанта В. Ф. Рекало немцы были отброшены, оставив до сорока трупов. Капитан Н. Н. Перлик своей «тридцатьчетвёркой» уничтожил шестиствольный миномёт, но получил тяжёлое ранение. Его механик-водитель, сержант А. А. Чистяков, сам раненый, доставил командира к своим. Старшина М. М. Голиков со своей разведгруппой, используя обе уцелевшие бронемашины, вёл разведку, нападал на блокирующие посты и нарушал связь противника. Опасаясь полного разгрома передового отряда, генерал Ротмистров приказал Егорову отвести остатки его сил на правый берег Маныча. Под прикрытием 3-й танковой и 2-й мотострелковой бригад к утру 23 января семь оставшихся танков и полсотни автоматчиков из отряда Егорова соединились с главными силами 3-го гвардейского танкового корпуса. За время рейда, с 19-го по 22 января, передовой отряд уничтожил до шестисот солдат и офицеров противника, десять самолётов, десять пулемётов, две зенитных пушки .
21 января лётчики Жовтоножко и Думенко из 622-го штурмового авиационного полка вылетели на штурмовку колонн противника в район Усьман, но их атаковала четвёрка «мессершмидтов». Лейтенант Жовтоножко приказал ведомому Думенко, прикрываясь облачностью, уходить на свой аэродром, а сам вступил в бой с истребителями. Скоро «ИЛ-2» был подбит, но лётчик сумел посадить его на поле у Тузлукова. К самолёту направились два немецких бронетранспортёра. Огнём из авиапушки Жовтоножко подбил обе машины, а когда боекомплект закончился, поджёг самолёт и, отстреливаясь из пистолета, стал отходить к лесополосе. Но прорваться сквозь кольцо вражеских солдат не удалось. Последний патрон Григорий Александрович пустил себе в висок.
22 января бригады 2-го и 5-го механизированных корпусов атаковали противника и заняли хутора Самодуровка, Черюмкин, Красный, Усьман, Нижне-Подпольный. Немецкое командование направило в этот район свою авиацию и перебросило главные силы 17-й танковой и 16-й моторизованной дивизий, насчитывавших до шестидесяти танков и столько же бронетранспортёров, до ста орудий и миномётов, сотни автомашин.
23 января, после ударов пикирующих бомбардировщиков «Ю-87» и мощного артиллерийско-миномётного обстрела, обе немецкие дивизии в ходе ожесточённого боя к полудню заняли хутора Нижне-Подпольный, Черюмкин, Самодуровку, Пустошкин и непрерывно атаковали Красный и Усьман. 98-я стрелковая дивизия полковника Ивана Федотовича Серёгина своими малочисленными 4-м и 308-м полками обороняла Красный, прикрывая штабы дивизии и 5-го гвардейского механизированного корпуса. 166-й стрелковый полк, усиленный учебным батальоном дивизии, был окружён пятьюдесятью немецкими танками и семьюдесятью автомашинами с пехотой в Самодуровке. До темноты наши пехотинцы вели неравный бой в этом хуторе, а затем пробились к Манычской.
Около полудня тридцать семь танков с двумя батальонами мотопехоты атаковали хутор Красный, предварительно сровняв его с землёй массированной бомбёжкой и артиллерийско-миномётным огнем. Штабы 5-го корпуса и 98-й дивизии понесли потери, были разбиты узлы связи, но под прикрытием пехотинцев 4-го и 308-го полков организованно отошли на северный берег Маныча. Вечером 23-го остатки полков по приказу командира дивизии отошли в Манычскую. В Самодуровке в руки гитлеровцев в бессознательном состоянии попал командир первого батальона 166-го полка капитан В. Лесников. Его жестоко пытали, но офицер молчал. Ему нанесли десятки колото-резанных ран ножами и штыками. Радист роты связи этого полка красноармеец Л. Солдатенко до последнего патрона вёл огонь и уничтожил одиннадцать солдат противника, а ночью, прихватив рацию, вышел из окружения в расположение главных сил 98-й дивизии.
Тяжелейший бой в этот день вели за Усьман 10-я и 12-я гвардейские механизированные бригады 5-го мехкорпуса. В 8.05 восемнадцать танков из Камышовки и двадцать четыре танка из Тузлукова атаковали позиции 12-й мехбригады на юго-восточной окраине хутора. Гвардейцы этой бригады отбили три атаки, уничтожив одиннадцать танков и до сотни вражеских солдат. Ещё три танка подорвались на минных полях, установленных сапёрами 63-го гвардейского батальона 5-го мехкорпуса на дорогах западнее и юго-западнее Тузлукова. Западную и северо-западную окраины Усьман обороняла 10-я гвардейская механизированная бригада. Её воины отбили две атаки превосходящих сил, но немцы не ослабляли натиска. Когда их танки и мотопехота ворвались в хутор, к панораме орудия, расчёт которого вышел из строя, встал гвардии подполковник В. И. Карев. Прежде чем осколки сразили его, командир бригады лично подбил три вражеских танка. 11-я мехбригада 5-го корпуса в этот день удерживала хутор Чернышёв.
К исходу 23-го января 5-я, 6-я и 4-я гвардейские механизированные бригады 2-го мехкорпуса решительной контратакой выбили немцев из Черюмкина, Нижне-Подпольного, Красного Ловца - где и закрепились. В 3-м гвардейском танковом корпусе все боеспособные танки были переданы в 3-ю гвардейскую танковую бригаду, которая при поддержке 2-й гвардейской мотострелковой бригады выбила 63-й мотопехотный полк 17-й танковой дивизии противника из Пустошкина и потеснила его к хутору Зелёная Роща. В корпусе осталось всего одиннадцать боеспособных танков. В двух остальных корпусах механизированной группы «Дон», в 2-м и 5-м гвардейских механизированных (а это шесть механизированных бригад и четыре отдельных танковых полка) на 24 января оставалось на ходу 45-50 лёгких и средних танков, типа Т-70 и Т-34 .
13-й гвардейский стрелковый корпус генерала П. Г. Чанчибадзе силами 49-й гвардейской дивизии удерживал рубеж Позднеевка - Красный Кут - Весёлый. 3-я гвардейская дивизия двумя полками вела бой на рубеже пятьсот метров севернее хутора Красное Знамя, имея в резерве третий полк в станице Багаевской.
24-го и 25-го января эпицентром кровопролитных боёв стала Манычская, где отличился 54-й гвардейский истребительно-противотанковый дивизион старшего лейтенанта И. П. Наконечного из 2-го механизированного корпуса. Героем обороны станицы стал замполит дивизиона майор Н. К. Русаков. В первый день боя вторая батарея под командованием старшего лейтенанта Н. М. Остапенко отбила две массированных танковых атаки и подбила десять танков. Два из них уничтожил сам комбат. 25-го января враг атаковал станицу с юго-запада и юго-востока двумя группами, по двадцать и тридцать танков, с батальоном мотопехоты каждая. Уничтожив пять танков, погибла третья батарея, боем которой руководил командир дивизиона. Командование 2-го гвардейской армии посмертно наградило Наконечного орденом Красного Знамени. К исходу этого дня, потеряв ещё десять танков и подавив батареи 54-го дивизиона и 435-го противотанкового полка, немцы захватили Манычскую. Тридцать танков с крестами на броне застыли мёртвым железом на её улицах. На восточной окраине был блокирован пункт управления первой батареи 54-го гвардейского противотанкового дивизиона во главе с лейтенантом Г. Н. Гайфулиным. Подчинив себе взвод противотанковых ружей, отважный лейтенант в течение всей ночи вёл неравный бой с танками и автоматчиками противника. Утром 26-го января, оставшись один и без патронов, Гайфулин подорвал противотанковой гранатой себя и бросившихся к нему десяток вражеских солдат.
26-го января, к 15.00, остатки 3-го гвардейского Котельниковского танкового корпуса сосредоточились на правом берегу Маныча. 19-я и 18-я танковые бригады сосредоточивались в хуторе Ёлкин. 3-я танковая и 2-я мотострелковая гвардейские бригады этого корпуса заняли оборону по берегу реки, имея четыре КВ, один Т-34 и один Т-70, две противотанковые пушки. 2-й гвардейский механизированный корпус перешёл к обороне напротив станицы (во всех трёх бригадах было восемь танков - четыре Т-34 и четыре Т-70). 5-й гвардейский Зимовниковский механизированный корпус из района хутора Федулов атаковал Тузлуков, располагая в своих боевых порядках двумя танками Т-34 и пятью лёгкими Т-70, а также семью противотанковыми пушками калибром 45-мм., 2 200 активными штыками. Эта атака была отбита с большими потерями пехоты на манычском льду.
Вечером генерал-лейтенант танковых войск Ротмистров докладывал командующему 2-й гвардейской армией генералу Малиновскому: «Части механизированной группы в результате сложившейся обстановки и тяжёлых потерь сейчас самостоятельных боевых действий вести не могут».
Оперативные сводки Генерального штаба Красной Армии за 24-31 января 1943 года фиксируют упорные оборонительные бои с танками и пехотой противника в полосе Манычская - Свобода. Ставка Верховного Главнокомандования оперативной директивой № 30031, отправленной 26-го января, в 23 часа 40 минут, командующему Южным фронтом генерал-полковнику Ерёменко, категорически потребовала:
«1. Решительно улучшить управление войсками фронта.
2. Ускорить темп наступления 51-й и 28-й армий и 28.01.43 г. выйти на рубеж: Ольгинская, Батайск.
3. ВПУ 2-й гвардейской армии немедленно приблизить к войскам.
4. Управления 2-го, 5-го гвардейских механизированных корпусов и 3-го гвардейского танкового корпуса передать непосредственно тов. Малиновскому.
5. Получение подтвердить, исполнение донести.
И. Сталин.
Г. Жуков» .
Немедленно по получении этой директивы Андрей Иванович Ерёменко отдал приказ командующим 2-й гвардейской, 51-й и 28-й армиями: «Ставка ВГК поставила перед Южным фронтом категорическую задачу к исходу 28-го января выйти в район Батайск, Койсуг и отрезать пути отхода кавказской группировки. Решительными действиями 28-го января разгромить противостоящего противника и выйти на рубеж: Ольгинская, Батайск, Койсуг. Для выполнения этой задачи мобилизовать весь личный состав. В войска направить ответственных командиров и политработников для помощи в организации и проведения решительного наступления и разгрома врага.
Ерёменко. Хрущёв. Варенников». .
Командующий 2-й гвардейской армией генерал Малиновский был вынужден произвести перегруппировку, сменить обескровленные части танкового и механизированных корпусов и 98-ю стрелковую дивизию гвардейской пехотой 1-го и 13-го стрелковых корпусов. Наспех организованное наступление результатов не дало. 27 января полки 24-й гвардейской дивизии генерала П. К. Кошевого (будущего маршала Советского Союза) с остатками 5-го механизированного корпуса повели наступление на Тузлуков и Малую Западенку. Неоднократные попытки преодолеть Маныч враг пресекал шквальным огнём всех видов оружия и бомбо-штурмовыми ударами авиации. Также безуспешными были атаки 3-й и 49-й гвардейских дивизий, усиленных танками 128-го, 136-го, 158-го и 223-го отдельных танковых полков, восстановить положение на южном берегу Маныча. Под лёд ушло до двух десятков танков, столько же было подбито огнём противника. Большие потери понесли и стрелковые полки. Как свидетельствуют старожилы хутора Тузлуков, «много погибших солдат осталось лежать в камышах реки Маныч. Весной, когда река проснулась, течение понесло тела погибших. Куда? Никто не знает. Сколько? Никто не считал...».
Под впечатлением от больших потерь, раздавленный неудачным наступлением, пытавшийся лично поднимать солдат в атаку и получивший ранение в голень ноги, застрелился член Военного Совета армии и личный друг Малиновского, гвардии генерал-майор Илларион Иванович Ларин. Причинами самоубийства интересовался сам Сталин.
29 и 30 января войска 2-й гвардейской армии неоднократно пытались форсировать реку, но безуспешно. 30 января немецкая авиация разбомбила штаб армии в хуторе Нижне-Солёный. Погибло несколько офицеров штаба, сгорело много оперативных и учётных документов. Поэтому указанные в итоговой сводке штаба армии суммарная цифра потерь личного состава за 20-30 января 1943 года - 17802 человека - неполная. На 30 января все танковые и механизированные соединения и части были обескровлены и небоеспособны:
3-й гвардейский танковый корпус имел 9 танков и 350 мотострелков;
2-й гвардейский мехкорпус - 8 танков, около 1000 мотострелков;
5-й гвардейский мехкорпус - 8 танков, до 2 000 мотострелков;
128-й, 136-й, 158-й, 223 отдельные танковые полки имели 24 танка, а всего во 2-й гвардейской армии оставалось боеспособными 49 танков.
4-й гвардейский мехкорпус имел 2 танка, занимая хутора Павлов, Золотарёв и Ново-Калиновский.
3-й гвардейский мехкорпус имел 4 танка, занимая хутора Раково-Таврический, Радухина Балка.
За три недели до этого в вышеуказанных частях и соединениях было 526 исправных танков .
В штабе Южного фронта оформили заявку, где указывалось: «для восполнения потерь необходимо фронту пополнение - 100 000 человек, из них 50 000 гвардейского; танков - 500 единиц» .
31 января гвардейцы 33-й, 24-й и 49-й дивизий, поддержанные уцелевшими и отремонтированными танками из расформированной механизированной группы «Дон», форсировали Маныч и завязали бои на его левобережье. 24-я дивизия, с девятью отремонтированными танками 18-й гвардейской танковой бригады подполковника Д. К. Гуменюка, вышла к хутору Красный. 33-я гвардейская дивизия генерала А. И. Утвенко вела бои за Манычскую, которую враг превратил в мощный узел сопротивления. Здесь оборонялся 156-й мотопехотный полк 16-й мотодивизии, усиленный двумя батареями гаубиц и двадцатью танками.
Предпринятая в ночь на 1 февраля атака 84-го и 91-го стрелковых полков была отражена. Неудачей закончился и штурм Самодуровки 88-м гвардейским полком. В первый день февраля продолжались затяжные бои. Гвардейцы 24-й дивизии после двух атак хутора Красный отошла на рубеж: отметка 14,5; отметка 10,7. 49-я гвардейская дивизия генерала Д. П. Подшивалова в ходе тяжёлого боя заняла хутор Армянский, но, контратакованная во фланг и тыл батальоном мотопехоты с одиннадцатью танками, отошла на рубеж: отметка 53,4; отметка 101,8. 33-я дивизия вела бой за Манычскую.
Батальон 88-го полка зацепился за её восточную окраину. Немцы двинули на него из Самодуровки восемь танков и пять грузовиков с пехотой, но наскочили на минное поле и остановились. Генерал Утвенко атаковал Манычскую с трёх сторон. После двухсуточного боя, к исходу 2 февраля, гвардейцы полностью очистили станицу. В этот же день 88-й гвардейский полк освободил Самодуровку (ныне - хутор Первомайский) . Дивизии 13-го гвардейского стрелкового корпуса к исходу 2 февраля освободили Красный, Усмань, Зелёную Рощу. Тяжёлый и длительный бой шёл за Тузлуков.
И. А. Пшенник в 1978 году в письме вспоминал:
«Наша бригада двинулась к хутору Тузлукову. Ночь превратилась в день. Взлетали красные ракеты, строчили пулемёты, рвались гранаты, мины, снаряды, стреляли бронебойщики. Крики и стоны, ругань - всё слилось в единый звук. С востока немцев прижали наши батальоны. На западе хутора, на минных полях, расставленных нашими сапёрами, подрывались немецкие танки. Хутор горел как факел. Бой не утихал вторые сутки, но уже было заметно, что силы немцев на исходе. Всю ночь - бой. На рассвете мы вступили в хутор Тузлуков. Повсюду можно было видеть зияющие в провалах снега чёрные воронки, скелеты сгоревших танков, немецкие трупы, брошенную врагом технику.
Были здесь и собачьи упряжки, на которых наши санитары вывозили с поля боя раненых бойцов. Мы подсчитали свои трофеи: около 500 убитых фашистов, 124 пленных, 54 автомашины, 4 зенитки, 8 миномётов, 6 брошенных немецких танков, продовольственный склад и многое другое... От некогда большого хутора осталось 6-7 домов. Снег от копоти был чёрным, везде грудами лежали солдаты: наши и немецкие. В одном доме было около двадцати наших солдат, когда в него попал снаряд. Все погибли. Старики хутора Тузлуков сразу стали собирать убитых. Они запрягали волов в сани и целую неделю ездили по всей округе, собирая солдат. Укладывали их в воронки. Сколько их было, воронок, набитых мёрзлыми трупами - тридцать? Сорок? Пятьдесят? Кто знает? Счёту не было...».
После освобождения Манычской и Самодуровки малочисленные полки 33-й гвардейской дивизии в упорных боях освободили 4 февраля хутора Арпачин и Алитуб. Гвардейцы 3-й, 24-й, и 49-й стрелковых дивизий 13-го стрелкового корпуса к 6 февраля вышли в район Усмань - Резников - Верхне- и Нижне-Подпольный.
На этом бои на манычском рубеже завершились. Перед 2-й гвардейской армией были поставлены новые задачи - освободить Новочеркасск, обойдя Ростов с севера. 51-я армия генерала Н. И. Труфанова наступала через Ольгинскую на Аксайскую, а 28-я армия генерала В. Ф. Герасименко - через Батайск на Ростов. Фронтовая конно-механизированная группа генерал-лейтенанта Н. Я. Кириченко в составе 4-го Кубанского и 5-го Донского гвардейских казачьих кавалерийских корпусов (шесть дивизий), 2-й, 14-й, 15-й танковых бригад, 134-го и 221-го отдельных танковых полков наступала из района Койсуга через плавни на станцию Хапры, обходя Ростов с запада. Пять дивизий 44-й армии генерала В. А. Хоменко через Азов и пойму дельты Дона наступали на Синявскую и Самбек. Наступление продолжалось...
Кровавые бои в течение восемнадцати суток в устье Маныча отмечены в официальной истории Великой Отечественной войны несколькими строчками общего характера. Массовый героизм и подвиги сотен воинов-гвардейцев не удостоены золотых звёзд Героев. Тысячи павших остались безымянными, захоронённые в воронках, в погребах сожжённых хуторов, в силосных ямах, в окопах и блиндажах. Немецкое командование удостоило высшей награды - Рыцарского креста с бриллиантами не только командиров дивизий - 11-й и 17-й танковых, 16-й моторизованной, но и командира 156-го мотопехотного полка и ряд младших офицеров, отметив их вклад в спасение 1-й танковой армии вермахта, благополучно выведенной с Северного Кавказа через «батайские ворота». «Гросс-Сталинград» не получился...
ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА
- ЦАМО. Ф. 16. Оп. 512. Д. 62. Л. 157-158.
- Богачёв В. П. Гвардейский Котельниковский. М. : Воениздат, 1981. С. 66.
- ЦАМО. Ф. 16. Оп. 1072. Д. 1. Л.. 225, 235, 243, 261.
- ЦАМО. Ф.3. Оп. 11556. Д. 12. Л. 75-76.
- ЦАМО. Ф.64. Оп.. 505. Д. 30. Л.16.
- ЦАМО. Ф. 228. Оп.. 505. Д. 82. Л. 1-7.
- ЦАМО. Ф. 64. Оп. 505. Д. 15. Л. 78-79.
- ЦАМО. Ф. 303. Оп. 4005. Д. 71. Л. 19-20.
- РОМК. Отдел фондов. «ПИ». КП 22169.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.
Состав и командование советских войск
2-я гвардейская армия - генерал-лейтенант Малиновский Родион Яковлевич.
1-й гвардейский стрелковый корпус - генерал-майор Миссан Иван Ильич.
13-й гвардейский стрелковый корпус - генерал-майор Чанчибадзе Порфирий Георгиевич.
2-й гвардейский механизированный корпус - генерал-майор Корчагин Иван Петрович.
3-й гвардейский танковый корпус - генерал-лейтенант Ротмистров Павел Алексеевич.
5-й гвардейский механизированный корпус - генерал-майор Богданов Семен Ильич.
2-й смешанный авиакорпус - генерал-майор авиации Ерёменко Иван Трофимович.
Дивизии:
3-я гвардейская стрелковая - генерал-майор Цаликов Кантемир Александрович.
24-я гвардейская стрелковая - генерал-майор Кошевой Пётр Кириллович.
33-я гвардейская стрелковая - генерал-майор Утвенко Александр Иванович.
49-я гвардейская стрелковая - генерал-майор Подшивайлов Денис Протасович.
98-я стрелковая - полковник Серёгин Иван Федотович.
300-я стрелковая - генерал-майор Афонин Иван Михайлович.
387-я стрелковая - полковник Макарьев Александр Константинович.
201-я истребительная - подполковник Жуков Анатолий Павлович.
214-я штурмовая - полковник Рубанов Степан Ульянович.
235-я истребительная - подполковник Курочкин Алексей Иннокентьевич.
272-я ночная бомбардировочная - полковник Кузнецов Павел Осипович.
Бригады:
3-я гвардейская танковая - полковник Сидякин Иван Васильевич.
18-я гвардейская танковая - полковник Гуменюк Даниил Кондратьевич.
19-я гвардейская танковая - полковник Егоров Александр Васильевич.
2-я гвардейская мотострелковая - полковник Лебедь Михаил Петрович.
4-я гвардейская механизированная - ?
5-я гвардейская механизированная - ?
6-я гвардейская механизированная - ?
10-я гвардейская механизированная - подполковник Карев Василий Иванович.
11-я гвардейская механизированная - ?
12-я гвардейская механизированная - подполковник Гольдберг Михаил Иосифович.
Отдельные танковые полки:
21-й гвардейский танковый полк
22-й гвардейский танковый полк
52-й гвардейский танковый полк
53-й гвардейский танковый полк
128-й танковый полк
136-й танковый полк
158-й танковый полк
223-й танковый полк
Артиллерийские и миномётные полки:
4-й, 23-й, 48-й, 88-й гвардейские миномётные полки РС («катюши»).
506-й, 1095-й, 1100-й, 1101-й пушечные артиллерийские полки.
435-й, 535-й, 1250-й отдельные истребительно-противотанковые полки.
488-й отдельный миномётный полк.
648-й тяжёлый армейский артиллерийский полк.
Инженерно-сапёрные части:
1-я отдельная понтонно-мостовая бригада.
742-й отдельный моторизованный инженерный батальон.
355-й отдельный инженерный батальон.